Наталья Суханова - Искус
- Название:Искус
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Суханова - Искус краткое содержание
На всем жизненном пути от талантливой студентки до счастливой жены и матери, во всех событиях карьеры и душевных переживаниях героиня не изменяет своему философскому взгляду на жизнь, задается глубокими вопросами, выражает себя в творчестве: поэзии, драматургии, прозе.
«Как упоительно бывало прежде, проснувшись ночью или очнувшись днем от того, что вокруг, — потому что вспыхнула, мелькнула догадка, мысль, слово, — петлять по ее следам и отблескам, преследовать ускользающее, спешить всматриваться, вдумываться, писать, а на другой день пораньше, пока все еще спят… перечитывать, смотреть, осталось ли что-то, не столько в словах, сколько меж них, в сочетании их, в кривой падений и взлетов, в соотношении кусков, масс, лиц, движений, из того, что накануне замерцало, возникло… Это было важнее ее самой, важнее жизни — только Януш был вровень с этим. И вот, ничего не осталось, кроме любви. Воздух в ее жизни был замещен, заменен любовью. Как в сильном свете исчезают не только луна и звезды, исчезает весь окружающий мир — ничего кроме света, так в ней все затмилось, кроме него».
Искус - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ах, да черт с ней, с формой и нечто, — страдает молча Ксения, — главное, что этого нет ни у Васильчикова, ни у нее, и не предвидится. Сегодня ей досталось вдвойне — за Васильчикова и за себя, и не такая уж, если подумать, разница между ним и ею, ни у него, ни у нее нет того нечто, которое не то язык, не то талант, не то кентавр. Но оба они, и Васильчиков, и она, упрямы, как комары в бабкиной деревне — чтобы быть, нужно, обламывая себя, протискиваться в едва заметные щели, в которых чаще застревают насмерть. От мгновенного отвращения к себе, от безнадёги обесцвечивался солнечный свежий день за открытыми дверьми дачи, становился просто холоден и не нужен. И все же глядеть на небольшой выпуклый подбородок Анны Кирилловны, на ее запекшийся мягкий рот, на крупные веки над темными глазами было сладостно, даже еще сладостнее от боли. Вечное извращение любви — капля муки ей не мешает.
— О-о, я долго отучала себя от писательства, — вероятно, в назидание Ксении вспоминает Анна Кирилловна, направляясь в сад тем же размашистым и все-таки ощупывающим шагом, с той же предосторожно, немного манерно приподнятой рукой. (Да, думает Ксения, эту женщину ничто не испортит: ни манерность, ни барственная демократичность, ни старость).
— Что? Почему отучала? А я люблю литературу. А так, отчего же? Писала бы, и не хуже других. Не хуже. Господи, женщина-врач, божьей милостью врач, пишет — как бумагу жует. Почему они не рожают? (Я родила, думала Ксения). Когда мне сказали, что у меня не может быть детей, я вышла от врача, а мир уже был навсегда другим. И тот человек был для меня уже невозможен — я от него ребенка хотела. И вот тогда я вышла за Костю. Ну, конечно. Не то что «ах, как он меня любит!» У меня вообще на этот счет своя точка зрения. Да нет, это ни к чему, совсем ни к чему — безумная любовь. Просто ни к чему, ни для чего. «Ах, он без меня умрет!» — как трогательно! Да чепуха. Чепуха. Меня вообще не трогает то, что трогает большинство людей. «Ах, он без меня жить не может». Да проживет, прекрасно проживет. Не в том дело. При чем тут любовь — я вложила в него свою душу. Какое имеет значение, любит он меня или нет. Пускай, с богом, живет себе.
Пахло соснами и цветами, за домом, на северной стороне еще и сыростью. В дальнем углу, у цветов возилась старшая сестра Кости — Евгеша, как звали ее за глаза младшие. Очень худенькая, ножки — прутиками, маленькая, с жидким седым пучком на затылке, мальчишески живая и резкая в движеньях, с бесцветными веселыми глазами, шишковатым носом и пряменьким, длинным подбородком, она не расставалась с папиросой даже в саду, но каждый раз, прежде чем закурить, тщательно запихивала в мундштук вату. Муж у нее умер в блокаду где-то на улице: из дому ушел, до работы не дошел, и сгинул. Евгеша с двумя мальчишками была в эвакуации. Теперь уже, оба военные, жили они отдельно, с семьями, время от времени подсылая к ней какую-нибудь из внучек. Из них любимая, но уж совсем не безумно, была одна, весело поражавшая безгрудую Евгешу острыми, в стороны, «как у козы», уже даже не грудями — античными сосцами.
Присев над китайскими маками, рассуждала Анна Кирилловна (что-то Ксения пропустила, прослушала) уже о Ремарке:
— Гадость! Все эти трупы — гадость. И любовь во время бомбежки — гадость. Я была на войне, я знаю. И, простите меня, когда бомбят, о ****стве не думают. Да нет, просто гадость.
Прошел, с отвращением касаясь влажной земли («просто гадость!») — кот. «Тиги!» — окликнула его Анна Кирилловна. На оклик кот остановился на полушаге — не оглянулся, только нахохлился — мол, что? что надо? Немного постояв и так и не оглянувшись, пошел дальше. У собак не шаг — побежка трусцой, коты именно идут, — и, словно услышав ее мысли, из-под крыльца вылез пес с завернувшимся со сна ухом. Протянув вперед лапы, долго, с дрожью потянулся и бодро затрусил к Анне Кирилловне. От шедшего навстречу кота посторонился, отступив с дорожки — тот, не удостоив его и взгляда, проследовал мимо. Вежливый пес в цветы не полез, улегся у ног хозяйки.
Облокотившись о садовый стол, Анна Кирилловна уже снова чиркала спичкой:
— …Цветы люблю — за то, что молчат и нежны. Что не живут половой жизнью (мохнатый шмель, зарывшийся в глубокий цветок, раскачивая его, похоже, демонстрировал обратное)… Костя в блокаду сам не ел — нес домой свой кусок. И я не ела, у нас были дети: свои — не свои, какое имеет значение? Рот у меня был в язвах, но я не сдохла, потому что не ела всякую дрянь. Люди ведь больше травились, чем от голода дохли. Я подолгу могу не есть. Я больше могу, чем понимаю. На мне платья шевелятся. Мой муж — первый, настоящий, единственный (Костя — другое) — звал меня ведьмой — в средневековье таких сжигали. Я многое вижу, особенно когда не ем и не курю. Я… но об этом потом когда-нибудь. А дальше что ж? Сталин вызвал Костю в Москву, велел там жить. Ну и… Костя только выглядит аскетом. Он ****ун, тут ничего не попишешь. Они все слабы на передок. Он недавно тут переводчицу так лапал, что я уж пыталась возвратить его в какое-то приличие и сообразие, на что мне было заявлено, что он ее просто сублимирует. Ну, а тогда в Москве, вознесенный и обласканный, завел он роман с Лемпершей. Потом я ее видела, прелестная баба, редкостный, божественный цвет лица. О нас естественно было забыто. Он, как кобель, в погул все остальное забывает. А меня прижало — моча не шла. Софка, смешная, кричала мне: «Трите янтарь». Софа, Шура да Миша меня тогда из могилы вынули. Что? А ничего. Лет пять назад познакомили меня с Лемпершей. Она уже за это время трех мужей сменила. Есть женщины, у которых своя лестница браков. Вон там у нас за столом сидела. Ели, пили, вели беседы — всё честь по чести, как у порядочных людей. Гляжу, Лемперша что-то бледнеет и краснеет. Константин Аркадьевич вышел — она вдруг бросается ко мне; раскаивается и просит прощенья — дескать, если бы она тогда знала меня, то она бы с Константином Аркадьевичем спать ни в коем разе не стала: «Вы такая! Вы такая!» Вот, так вот. Но я же тоже стерва хорошая. «Ну что вы, говорю, милая, о чем? Когда у Константина Аркадьевича погул, он таких подбирает — в страшном сне не приснится: что называется — чем гаже, тем слаже. По чести сказать, я вам благодарна. Бог знает, на что он, если бы не вы, мог кинуться».
— А Константин Аркадьевич не слышал?
— Нет, почему же, к концу нашего разговора он как раз вернулся. Что, что? Немножко был раздражен нарушением приличий: «Нюся! Валентина Юрьевна! Ну что это вы? Может, я тут лишний?» Тут уж мы обе развеселились. А то мадам, похоже, была несколько задета моими формулировками. И к месту Антон Олегович пожаловал, был очень мил со мной и галантен. «Какие у вас мужики!» — сказала Лемперша, уходя. «Иных не держим, мадам. Иных не держим».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
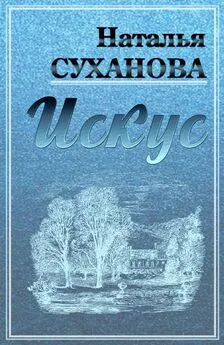






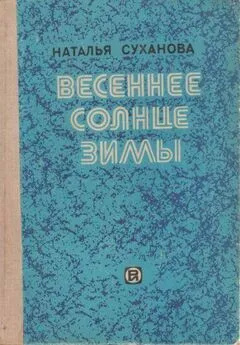
![Наталья Суханова - Вода возьмет [СИ]](/books/1143085/natalya-suhanova-voda-vozmet-si.webp)
![Наталья Суханова - Синяя тень [сборник рассказов : СИ]](/books/1143087/natalya-suhanova-sinyaya-ten-sbornik-rasskazov-s.webp)
