Наталья Суханова - Искус
- Название:Искус
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Суханова - Искус краткое содержание
На всем жизненном пути от талантливой студентки до счастливой жены и матери, во всех событиях карьеры и душевных переживаниях героиня не изменяет своему философскому взгляду на жизнь, задается глубокими вопросами, выражает себя в творчестве: поэзии, драматургии, прозе.
«Как упоительно бывало прежде, проснувшись ночью или очнувшись днем от того, что вокруг, — потому что вспыхнула, мелькнула догадка, мысль, слово, — петлять по ее следам и отблескам, преследовать ускользающее, спешить всматриваться, вдумываться, писать, а на другой день пораньше, пока все еще спят… перечитывать, смотреть, осталось ли что-то, не столько в словах, сколько меж них, в сочетании их, в кривой падений и взлетов, в соотношении кусков, масс, лиц, движений, из того, что накануне замерцало, возникло… Это было важнее ее самой, важнее жизни — только Януш был вровень с этим. И вот, ничего не осталось, кроме любви. Воздух в ее жизни был замещен, заменен любовью. Как в сильном свете исчезают не только луна и звезды, исчезает весь окружающий мир — ничего кроме света, так в ней все затмилось, кроме него».
Искус - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Туфта — и миф. Героика казенная — и легенда фольклорная. И отзывались эти похороны Новочеркасском, как Новочеркасск отзывался бунтом на броненосце «Потемкин» из-за червивого мяса. И молодежный форум в Казарском дворце культуры, и собрание в Технологическом институте, когда секретарь обкома обозвал Вознесенского белой гнидой, а молодой преподаватель крикнул с места: «Этой гниде, между прочим, Генеральный секретарь руку пожал», и всегородские похороны мужа, убившего жену-депутата, и рассказы Яшина и Войновича, и статьи о Сэлинджере и Аксенове — всё это сошлось вдруг вместе и разрешилось неким откровением или (дело терминологии) впадением в социальное прозрение.
От речей Воронова о московских снобиках и абстракционизме она отмахивалась и вопрошала с довольным, хитрым смехом: не знает ли он, мудрец и литературовед, почему это на противоположных сторонах земного шара, в противоборствующих странах герои у писателей как родные братья, чего это они «инфантильные» и там, и здесь? И сама же и отвечала:
— Да потому, что это одно и то же — там и здесь. Почва одна. У Аксенова и Сэлинджера герои инфантильны не потому, что… а потому что! Если одна и та же растительность, значит одна почва и один климат!
Забавно, однако, получалось — совсем недавно чуть не теми же словами говорил ей студент: «У нас и у них одно и то же: там работают и здесь работают, они запускают спутники и мы запускаем, здесь директор — там управляющий. Кстати, капиталист работает больше любого своего рабочего, тратит на себя скупо, Форд вел почти аскетический образ жизни; ну а если даже и случится роскошествующий капиталист, так больше нескольких костюмов ни одному дураку не нужно и больше тридцати двух золотых зубов при всём желании не вставишь. Всё одно и то же, только называется по-другому». А она запальчиво возражала. Почему возражала-то? Теперь она говорила чуть ли не то же самое — там и здесь, у Сэлинджера и у Аксёнова одно и то же. Одна и та же почва. Герой инфантилен не потому, что с ним нянькаются, а потому что у них одна и та же почва, все запутано — и там, и здесь вместо гумуса ядовитая химия вранья.
— Те-те-те (в смысле «ну-ну-ну»), — посмеивался Воронов. — Вот так вот, да? А между прочим, в сложнейшие времена Гражданской и после нее — по скольку лет было командармам на фронте и в промышленности?
— Да ведь было трудно, смертельно, но вранья-то не было. Мир в наши дни стал не сложнее, а лживее! Всё пролживело!
— Уж так-таки все врут и всё врет! И так-таки уж ни в чем не разобраться?
— Не врут только рожь и пропасть.
— «Над пропастью во ржи»? А между тем так и они врут. Вон сколько споров: высокая должна быть пшеница или низкорослая, а после химической обработки полей — хлебом еще и травятся.
— А после обработки ложью травятся «истинами».
— А пропасти… как там у Пушкина? — «Всё, всё, что гибелью грозит…»
И понеслись: Пушкин, Грибоедов, сколько было лет декабристам, Печорин инфантилен, как и сам Лермонтов…
— Охолоньте, охолоньте, уважаемая, признайте, что — пусть даже инфантилен Печорин, в чем, между прочим, я не согласен с вами, но нам-то это уже непозволительно: слишком многое — сама Земля, может быть! — поставлено на карту. И абстракционизм из этого же инфантилизма произрастает.
Ах, да черт с ним, с абстракционизмом — он и ей, собственно говоря, не нравился, неприятен был: углы, квадраты вместо многоочерченных, многовыпуклых и многовогнутых лиц, слишком механистично и прямолинейно. Но, чтобы справедливой быть, возможно, именно от великой сложности натуры эта страсть к честной, бесстрашной прямой.
— От прямых-то еще больше ополоумеешь, — посмеивался Воронов.
А и в самом деле, как хороши были кривые физиономии персонажей Диккенса, Гоголя, Домье — вслед за ними так хотелось и самой корчить рожи. Индустриализация живописи и литературы пугала очень.
Она и сама-то была инфантильна, как герои Гражданской войны. Да и святые — «ибо царствие Божие есть царствие детей». Но ведь и инквизиторы тоже еще как инфантильны. А нечего, видимо, соваться судить и устраивать, если уж исходно грешны ложным знанием, исходно инфантильны, недоразвиты.
Но она-то вечно совалась, пожизненно. Ведь и в институт, где работала до рождения Ивануша, пришла Ксения не столько за окончательным расчетом, сколько для разговора с новым секретарем партбюро. Зря, конечно: слово — серебро, молчание — золото. Но молчание слишком удобно. И меч, который принес в мир Христос, был не сталью, а словом. И слово было в начале. И словом был Бог. Она-то богом не была — она только отмазывалась от греха умолчания и самолюбиво переживала свою неуклюжесть, заранее зная, что будет смешной. Но должна же была она передать кому-то, сказать, объяснить — не в КГБ же, в конце концов, идти с подозрением, что их директор, стоящий во главе как бы даже секретного института, подлец и враг. Враг кому, чему? Советским людям. Ибо советской власти нет, но есть же советские люди.
Не без любопытства прошла она через проходную. Уже и вахтер был новый, так что пришлось объяснять, кто она и зачем пришла.
Во дворе ни одного знакомого лица — как быстро все меняется в твое отсутствие. Начальница отдела кадров, к которой была она перед декретом сослана, встретила Ксению ласково — она и всегда-то (не без начальственности, конечно) была с Ксенией приветлива. Явно любопытна была Ксения начальнице еще в те времена: высшее юридическое образование, а пошла, пусть со всякими льготами и поблажками, техническим секретарем, а ведь если сама не будешь держаться вровень со своим образованием, скоро о нем никто и не вспомнит. Конечно, в партбюро и секретарь-машинистка — не то что, скажем, в учебной части: все к ней за ручку — «вась-вась», с вопросом и подхалимажем, всякое начальство шастает и за ровню признает. Но — занеслась, образование-то еще не всё, жизнь надо знать — за молодую глупость и бузотерство сослали ее рядовой машинисткой в отдел кадров, и то лишь потому, что беременна, а так бы просто коленкой под зад — директор на это мастак, а иначе и директором бы не был. Что Ксения не далась, не отступила перед директором, было любопытно начальнице, к тому же поговорить с интеллигентной девочкой всегда приятно, да и работала сосланная неплохо. А тут ещё произошла некая перемена статуса: бывшая интеллигентная, забавная машинисточка, напечатавшись в московском журнале, выскочила из привычной иерархии в другое пространство — и в силу разноположенности этих социальных пространств было уже непонятно, сверху или снизу она обретается. Была начальница в этот раз как бы даже смущена — ей явно хотелось поговорить о жизни: вообще о жизни и о своей прошлой в частности, о жизни, не отраженной ни в одной анкете и как бы даже исчезающей за невостребованностью. Из тяжелого детства и юности, фронтовичка, женщина энергичная и некрасивая, она и образование получила, и семьей обзавелась, и в работе продвинулась. Всего добилась сама. Но было и в войне, и в биографии что-то, как бы и не нужное ни войне, ни биографии, и именно потому, что никуда не пошло, оставалось при ней несуразным довеском, возвращало к себе мысли, которые тоже не знали, что с этим делать. О чем-то таком хотелось бы поговорить с писательницей: не то об очень своем, лично ею вложенном, не то о чем-то ничейном, бывшем неизвестно зачем. Но между нею и увольнявшейся Ксенией стояла и разница возрастов, и профессиональная осторожность, и бесформенность самого опыта. Были ее воспоминания, опыт — как куча обносков: и тары нет, и ценность неведома, и тащить тягостно, и не бросишь — зачем-то помнится. Да и Ксения как-то сбивала с намерения поговорить — уж очень не подходила на роль «инженера человеческих душ», молодая, легкомысленная, нищая. И все же, все же, никак не могла определиться начальница, что-то же есть в этой маленькой Крутских, талант или что там, если ее напечатали в московском журнале и в центральной газете похвалили. Но — разве теперь те писатели, что были раньше? Сама Ксения не рассказывала ли стишки про теперешних писателей? «Встретил я Саянова, трезвого, не пьяного — трезвого, не пьяного, значит — не Саянова». Выходило, что почти все писатели, вплоть до Фадеева — выпивохи. «Тогда мы видим генерального, когда он выпьет минерального — когда же выпьет натурального, тогда не видим генерального». И о сталинском лауреате Бубеннове — что-то о «Белой березе», «белой головке» и белой горячке. Да, но… Начальница припоминала запойного Шолохова, и снова смотрела на Ксению ласково, хотя и рассеянно, тая в глубине глаз неуверенное намерение.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
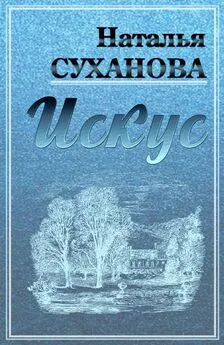






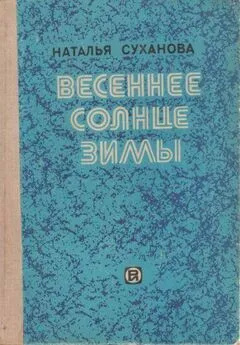
![Наталья Суханова - Вода возьмет [СИ]](/books/1143085/natalya-suhanova-voda-vozmet-si.webp)
![Наталья Суханова - Синяя тень [сборник рассказов : СИ]](/books/1143087/natalya-suhanova-sinyaya-ten-sbornik-rasskazov-s.webp)
