Наталья Суханова - Искус
- Название:Искус
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Суханова - Искус краткое содержание
На всем жизненном пути от талантливой студентки до счастливой жены и матери, во всех событиях карьеры и душевных переживаниях героиня не изменяет своему философскому взгляду на жизнь, задается глубокими вопросами, выражает себя в творчестве: поэзии, драматургии, прозе.
«Как упоительно бывало прежде, проснувшись ночью или очнувшись днем от того, что вокруг, — потому что вспыхнула, мелькнула догадка, мысль, слово, — петлять по ее следам и отблескам, преследовать ускользающее, спешить всматриваться, вдумываться, писать, а на другой день пораньше, пока все еще спят… перечитывать, смотреть, осталось ли что-то, не столько в словах, сколько меж них, в сочетании их, в кривой падений и взлетов, в соотношении кусков, масс, лиц, движений, из того, что накануне замерцало, возникло… Это было важнее ее самой, важнее жизни — только Януш был вровень с этим. И вот, ничего не осталось, кроме любви. Воздух в ее жизни был замещен, заменен любовью. Как в сильном свете исчезают не только луна и звезды, исчезает весь окружающий мир — ничего кроме света, так в ней все затмилось, кроме него».
Искус - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Буржуйство! — сказал, оглядевшись, Джо. — Сколько ты за этот агрегат выкинул? Нет, раньше здесь все-таки было лучше: следы на потолке, каждый честно ложился спать в своем пальто.
Музыкант, однако, был настроен благодушно. Охотно разъяснил, как размещаются динамики, поставил Энрико Карузо. Боб и Ксения внимали, девочки вели себя тихо, перешептываясь с улыбкой, братца занимала сама аппаратура, зато Джо был раздражен:
— Знаешь что: довольно морочить голову, давай из заначки бутылку. Бабы и без бутылки тебя любят.
— Ребята, бутылки нет, я бы сам рад.
В маленьком перерыве Джо вставил:
— Маэстро, не можете ли вы этот мотив повторить: «кхым-кхым, кугуль-кугуль»?
Уже и Боб, скучливо пристукивая, промычал:
— А джаз нельзя?
Музыкант только развел руками.
Едва допел Карузо, раздались аплодисменты и топот.
— Ну зачем топать-то? — огорчился музыкант.
— Да твой Карузо громче орал, — заявил Джо. — Спасибо, конечно. Ты нас извини, мы ведь от природы хамовиты. Парни унд дамы, пошли!
— Вы, правда, извините нас, — сказала в дверях Ксения.
— Не та аудитория, — развел руками музыкант.
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
Как у других отпусками, ее очередной год отмечался очередной поездкой в Москву: людей посмотреть, себя показать. Для домашних это, конечно, называлось: похлопотать в издательствах и журналах. Да и для себя, для оправдания перед Иванушем, наконец, для воспитанной в себе с младых ногтей целеустремленности это было обязательно, ибо если я не позабочусь о своих вещах, то кто же? — пропадут они, достойные, быть может, лучших современников, а то и потомков, вероятно, даже более близких, чем современники: ведь столкновение, встреча их со мною, как сталкиваюсь я с собою в зеркале, ища и не находя в своем отражении подлинную себя — исключено; они-то уж не ошибутся, потому что, как бы ни был путан их собственный мир, но за нашу-то путаницу они уже выйдут и никакой здешней уловкой или обманкой обмануты уже не будут.
Однако как противно было приходить в столичные редакции, ждать в коридорах, где шныряют лощеные или, наоборот, подчеркнуто простонародные, исконные, земляные — и те, и другие какие-то — и не мужчины даже, а глистики и топоры, — при портфелях с рукописями, — искатели: лица неестественные, при виде же редактора, после некой растерянной ряби на лице приобретающие приветливое или независимое выражение. У нее хоть были ее женскость и молодость. Ее же неловкость, если не заносило ее вдруг в заносчивость, или уж полную дубовость, были ей прощаемы — как смущение милой, способной провинциалки. Не в силах говорить о своих вещах, тем более о высоких предметах, она, хотя бы не без живости, пускалась в разговоры о городах и весях, о быте и детях. Ей симпатизировали. На ее членство в союзе, тем более — провинциальном, им было, конечно, плевать. Но ее, так или иначе, уже приметили, считали обещающей. И все равно именно ее (вечная судьба провинциалов) в первую очередь оттесняли на запасные позиции при ужимке издательских планов. Клятвенно обещали не сдвигать, но вот кого-то вдвигали, а ее сдвигали: ах-ах, бумага, классики — и что тут было возразить, лицо-то её конечно вытягивалось, но не забирать же рукопись. Да и долго сидеть огорошенной, несчастной — унизительно. Так что, с улыбкой, весело-жалобно: «Ой, как же! Вы же обеща-али. Опять бумага? Ну ладно, что ж поделать, бог терпел и нам велел. Но уж теперь-то никуда не сдвинете?».
Интересно, а каким бывал Васильчиков, когда ходил по этим коридорам? Уж он-то, даже идя по пустынным коридорам, улыбался бы своей изгибистой твердой улыбкой — было у него кое-что за плечами кроме этих скользких коридоров: не зря он по дымоходам спускался реквизировать награбленное, не зря он мог презрительно не заметить опять передвинутую соседями на два-три сантиметра границу участков, но если, перескакивая железную проволоку, натянутую между участками, поспешал к его крыльцу ражий мужик с ломом, мог спокойно выйти навстречу с берданкой, загоняя патрон в ствол. Да, пожалуй так бы мужчиной держался он и здесь, где все от голодной жажды напечататься если и вспоминают о чем-то, кроме своей писанины, то разве чтобы очаровать редакторшу: да, во что бы то ни стало, только дайте написанному родиться в печать, а время само решит, чего это стоит. Унизительно — и потому она всегда репетирует мысленно, как зайдет и что скажет, и все-таки не умеет быть ни достойной, ни ловкой, забыть о чем-нибудь одном из двух — о ловкости или о достоинстве, и уже только с надсадой спешит, чтобы пройти поскорее этот круг непременных хлопот, сделав все возможное и невозможное — бездарь, бездарь даже в этом.
Ах, это еще хорошо, что в издательстве, получив ее книжку самотеком, вспомнили (или кто-то напомнил) ее публикацию в журнале с Костиным предисловием. И вот — совсем уж редкостное везение: отданная требовательному, маститому писателю на рецензирование (а это ведь почти стопроцентно на заруб) рукопись вдруг получила положительный отзыв, и вот она в плане следующего года, только теперь сдвинута еще на год. Но ведь не выкинута, хотя ей и выдали почитать вторую рецензию — молодого критика из Литинститута: полный разгром на пятнадцати страницах. А она-то еще считала, что молодые умнее, прогрессивнее, а ум и прогрессивность должны были откликнуться радостно на ее тоже, в общем-то, молодой и прогрессивный талант. Выдали ей эту вторую рецензию с улыбкой: почитайте, мол, как неистовы наши практиканты, но не принимайте близко к сердцу — мы вас уже оценили. И все-таки — пятнадцать страниц яростной, убежденной хулы — и вот кричи в пространство: мол, что же это, разве можно так передергивать, так н е понимать?! До сих пор ведь ее еще не хулили. Разве что не замечали. Но уж заметив, гладили по головке. Тоже не очень приятно, потому что хвалили как-то графомански, как-то скопом и покровительственно — и главного, главного не видели! А ведь ради этого главного она и писала-то, а вовсе не ради «психологической достоверности», «прозрачного слога», «проникновенной интонации», и уж совсем не для того, чтобы «утверждать нравственность».
Но в этот раз, в эту поездку ей было это все не столь уж и важно. Ночью, в вагоне, — проступило, завязалось нечто. И та книга в издательстве сразу отступила, отвердела, отделилась от нее. Конечно, хлопотать о ней будет, и конечно нужно бы, чтобы вышедшую в свет, ее заметили, но это уже так, для будущего. Сама книга уже стала промежуточной.
Случалось и раньше, что в дороге — в машине, в автобусе, в вагоне, и лучше жестком — мысли ее вдруг возбуждались — лишь бы никто не мешал, не галдел, не заговаривал. В этот раз она проснулась ночью на верхней полке. Они стояли. Кусок света на стене был неподвижен, даже не подрагивал. На станции по динамику переговаривались о чем-то своем, рабочем. Потом без толчка, тихо-тихо сдвинулся светлый квадрат, проскользнул, бледнея, по стене в окно, и следующие станционные лампы успевали только наскоро возгореться и мазнуть, пропадая, по стенам. А вместо них вдруг ожили воздух и стук. В трепетном, торопливом дыхании ночи потягивало дымком, керосином, свежестью. Выстукивали, не теряя ни темпа, ни четкости, колёса, гудел в свою трубу паровоз. Чужой бал, но и ты, потусторонняя, втягивалась в него, чем-то полнилась. Еще недавно пустые — слова и понятия оживали, переглядывались, флиртовали друг с другом. Сложными встречными спиралями, успевая еще при этом по-цыгански мелко-мелко продрожать, перевивались, пританцовывая, движения вагона и твоего тела: стенка уходила вперед, отталкивая тебя назад, полка проваливалась под тобой, мгновение ты парила над ней, и как когда-то в бешеной линде с юным греком, властно выталкивающим тебя в сложность и быстроту, тебя носило вперед-вверх-назад-вниз-к-себе-от-себя, вертело вокруг играющей кривой: какие там тысячи километров обозначенного расстояния! Ах, даже двойная спираль проста по сравнению с этим! Это извилистое, перекатывающееся, выписывающее невероятные кривые движение тысячекратно увеличивали тысячи километров сомнительной прямизны.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
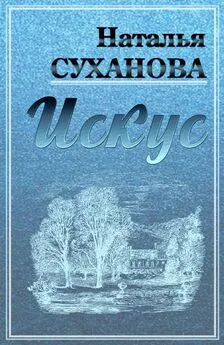






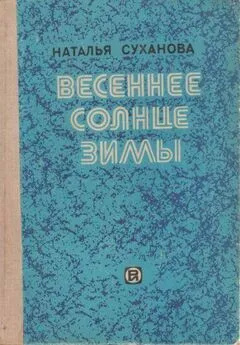
![Наталья Суханова - Вода возьмет [СИ]](/books/1143085/natalya-suhanova-voda-vozmet-si.webp)
![Наталья Суханова - Синяя тень [сборник рассказов : СИ]](/books/1143087/natalya-suhanova-sinyaya-ten-sbornik-rasskazov-s.webp)
