Наталья Суханова - Искус
- Название:Искус
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Суханова - Искус краткое содержание
На всем жизненном пути от талантливой студентки до счастливой жены и матери, во всех событиях карьеры и душевных переживаниях героиня не изменяет своему философскому взгляду на жизнь, задается глубокими вопросами, выражает себя в творчестве: поэзии, драматургии, прозе.
«Как упоительно бывало прежде, проснувшись ночью или очнувшись днем от того, что вокруг, — потому что вспыхнула, мелькнула догадка, мысль, слово, — петлять по ее следам и отблескам, преследовать ускользающее, спешить всматриваться, вдумываться, писать, а на другой день пораньше, пока все еще спят… перечитывать, смотреть, осталось ли что-то, не столько в словах, сколько меж них, в сочетании их, в кривой падений и взлетов, в соотношении кусков, масс, лиц, движений, из того, что накануне замерцало, возникло… Это было важнее ее самой, важнее жизни — только Януш был вровень с этим. И вот, ничего не осталось, кроме любви. Воздух в ее жизни был замещен, заменен любовью. Как в сильном свете исчезают не только луна и звезды, исчезает весь окружающий мир — ничего кроме света, так в ней все затмилось, кроме него».
Искус - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ксения ежилась. «Женщина под сорок, немолодая уже». Но ведь и ей уже столько же, почти столько же. Почему же она чувствует себя младше Влада? С его дедом она ощущала себя старшей, а с Владом — младшей. Эгоистический инфантилизм?
Да что угодно: инфантилизм, секта самоубийц, хоть смерть, только быть с ним! И у нее не взрослый сын…
— И вот, юноша покончил с собой, — продолжала Анна Кирилловна, принеся еще папиросной бумаги. О боже, вздрагивала Ксения, этого только не хватало — Влад ей нужен живой, и неужели сорок лет — предел, и она на пределе? Но пока до предела хоть сколько-то… — А потом следы затерялись. Мы говорим: сломы времени. Да, после них ты как в другом пространстве… Эти странные годы с какой-то обреченностью в людях. Человечество — это ведь гораздо больше биологическая штука, чем принято считать. Человек принадлежит поколению не только в силу воспитания, культуры, но и биологически. Вот это, что вдруг появляются мальчики, увлекающиеся электротехникой — ещё ничто не предвещает триумфального шествия электричества. А литература? Почему в девятнадцатом веке Россия выдала на-гора такую массу гигантов? И всё. И дальше уже не то. Почему Германия в одно столетие дала гигантов музыки? Одно столетие. Или Голландская школа живописи. Плод созревает накануне социальных сдвигов. Кстати, из тех, кто был в те годы вокруг в Петербурге, почти никого не осталось. Эти мальчики из революционных кружков, брошюры на плохой бумаге, ссылки. Если бы ты знала, какие жизни! Ну ладно, я не о том. Так вот, моя повесть, моя ненаписанная повесть. Это ночной Петербург. Последний трамвай. Я не знаю, сейчас так пишут? — Через всё окно впереди плакат: «Трамвай идет в парк». Почти пустой салон. Молодой человек с матерью. Девушка. Он уже видел ее. До революции ведь, если ты ходил на одни и те же концерты, ты уже знал людей, которые тоже ходят на них… Не знаю, я не кончила эту повесть, я и теперь иногда думаю ее. Ах, какое чудное было то лето, когда мы делали с Танькой наш бумажный город, и по этому городу ехал мой петербургский последний трамвай. У Кости был роман с переводчицей. Мы набирали воды и работали ночью. Утром я ложилась спать с мыслями о том трамвае, о любви с первого взгляда, о нашем — в раздвинутый большой обеденный стол — городе. Одна вещь там была очень хороша — башенка с решетками на окнах. Я придумала, как это делать из серебряной бумаги. Иногда Костя приходил к нам ночью, и мы расставляли ему на столе наш город. Утром мы ели и ложились спать. Потом Костя вернулся в лоно семьи, и все на этом кончилось. А что Костя? Нет, не жалела. Я вообще редко о чем жалею. В двадцать три года я совершенно четко знала, что всю любовь и всю радость, которые отпущены мне в жизни, я уже прожила. И так оно и было. Вот это чувство: ты — мой дом, ты — моя родина. С моим первым мужем дома, как такового, у нас не было — у нас было только это чувство: Ты — мой дом. Человек, который любил меня так, — я видела его потом, — уже не то, он был уже какой-то не тот. Мы оставили себя прежних где-то на улицах германского города. И всё. Дальше нужно было жить…
Из Москвы Ксения уезжала спокойная, напоенная сухим, просторным воздухом Анны Кирилловны. Казарск вновь обдал ее душной тоскою. Мать подвезла Януша. Нужно было устраивать его в известную казарскую школу, и она обходила с ним врачей, водила на упущенные прививки. Васильчиков оставался в свеем пионерлагерском далеке, — хоть это хорошо было. Сидя в поликлинических коридорах или у кабинета директора школы, она, уставясь в пол, глядя на жаркие блики солнца, всё не могла понять, зачем она здесь, зачем всем этим занимается и что с ней будет, если за это время Влад ее разлюбил. Вот уже третий месяц сердце ее мчалось по кругу, всё безнадежней, всё безумней и никак не сдвигалось мертвеющее, бесполезное время. Ночью, когда Януш спал, она металась по комнате, разговаривая про себя или вслух, словами или фразами, с собой, с Владом о себе, о них.
Уже третий месяц, и всё то же. Всё так же болит сердце. Почему так болит? Что это, эхо или предчувствие? Может, оно знает то, чего не знаю я? Несколько дней только и было сносных, когда из этого сумасшествия проступил Януш — самая высокая вершина прежней моей жизни. И тогда пришёл страх, что я нарушила мой договор с собой, с судьбой — о том, что я беру и чем расплачиваюсь. Пока не видно было ни клочка суши, не было и страха. Но вот проступила земля, и страшно преступить, накликать. Прежние привязанности уже со мной, уже греют меня, но всё равно, чем ближе к вечеру, тем больше болит сердце и слабеет воля. Если не будет тебя в моей жизни, как жить, чем жить? Всё проходит? Но это ужасно. Знать, что это пройдет, и нужно только перетерпеть, — невыносимо. Уж лучше страдать. Когда на минуту приходишь в себя прежнюю, когда трезвеешь, — смешно и стыдно. Я и ты. Стареющая женщина и почти мальчик. Когда же я в новой себе, ничего не стыдно и не смешно, всё просто и глубоко. Странно только, что и с ним происходит то же; я только думаю — а он вдруг это говорит. Глаза, которые становятся глазами только в любви. Дрожали руки, когда он со мной танцевал, и когда я подняла к нему лицо — глаза его, любящие, глубокие, почти грустные и как бы успокаивающие.
Он любит смотреть ее лицо кончиками пальцев: обняв, нежно касаясь ее лба, век, щек, подбородка, губ, глядя куда-то поверх ее головы, как бы прислушиваясь.
Я вся — как онемевшие трибуны, а сердце — как обезумевший бегун. Там, куда он бежит, — ни приза, ни финиша, ничего. Он пропадает и появляется вновь, пропадает и появляется вновь — уже дальше. Словно бежал и тогда, когда исчезал. Чем больше задыхается, тем быстрее бежит.
Ничего не понимаешь ночью: зачем делаешь то, что делаешь? Еще хорошо, если ради другого человека. Хуже, если потому, что так должно. Упреки, нежные упреки Влада, зачем делать то, что не нужно, и этот ласковый взгляд на дорогу с подложенных под голову рук на столе — в ожидании ее. И эта упрямая ласковость — не отпускать ее, когда вдруг случайный свет из окна или с дороги освещает их. И твое имя уже не сестрица Ксения, а Ксюшенька, девочка моя, любимая, — поверх твоей, прижимаемой им к себе, головы — чтобы не зажимала ему рот, не перечила. Ксюшенька, девочка моя, любимая. И эти сжатые в руках руки, и глаза у глаз, так что ничего не видишь уже.
Господи, всё самое некрасивое, любое-любое в нем — так до слёз любимо. Как думала она, едва расставшись с ним: неужели может быть такое счастье, что завтра опять увидит его, и обхватят друг друга, и земля покачнется, и ослабнут ноги? Да, верно, — что уехала; верно, что ничего не может из этого выйти — для реальной, повседневной жизни, — потому что такого счастья не может быть долго, оно не позволено смертным. Ласка, нежность, что угодно — да. Но когда такое счастье — дальше уже или ослабление, или смерть. И как же так, всего не больше чем за месяц до того, как вспыхнуло неистребимо, стоял же он на ступенях кинотеатра, до последнего звонка ожидая Свету, и когда та все-таки не пришла, не захотел даже смотреть кино. Уже тогда тебе было больно, но это все-таки еще не любовь была, разве что жажда любви. До любви любви не было. До «имеет место» — места нет. Прэнэ вотр плас — делайте ваш выбор, берите ваше место. Но до того, как ты его взял, места нет. Вчера еще это «место» могло быть совсем другим. Сегодня уже нет. Необратимо. Теперь уже мир не будет прежним. Могли ведь не встретиться, могли не увидеться. «Нет, не могли, — говорит Влад. — Судьба не имеет сослагательного наклонения».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
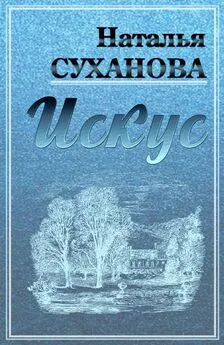






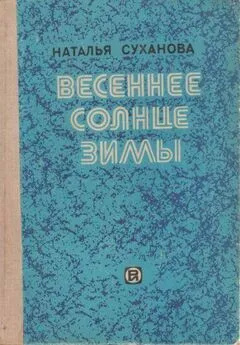
![Наталья Суханова - Вода возьмет [СИ]](/books/1143085/natalya-suhanova-voda-vozmet-si.webp)
![Наталья Суханова - Синяя тень [сборник рассказов : СИ]](/books/1143087/natalya-suhanova-sinyaya-ten-sbornik-rasskazov-s.webp)
