Наталья Суханова - Искус
- Название:Искус
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Суханова - Искус краткое содержание
На всем жизненном пути от талантливой студентки до счастливой жены и матери, во всех событиях карьеры и душевных переживаниях героиня не изменяет своему философскому взгляду на жизнь, задается глубокими вопросами, выражает себя в творчестве: поэзии, драматургии, прозе.
«Как упоительно бывало прежде, проснувшись ночью или очнувшись днем от того, что вокруг, — потому что вспыхнула, мелькнула догадка, мысль, слово, — петлять по ее следам и отблескам, преследовать ускользающее, спешить всматриваться, вдумываться, писать, а на другой день пораньше, пока все еще спят… перечитывать, смотреть, осталось ли что-то, не столько в словах, сколько меж них, в сочетании их, в кривой падений и взлетов, в соотношении кусков, масс, лиц, движений, из того, что накануне замерцало, возникло… Это было важнее ее самой, важнее жизни — только Януш был вровень с этим. И вот, ничего не осталось, кроме любви. Воздух в ее жизни был замещен, заменен любовью. Как в сильном свете исчезают не только луна и звезды, исчезает весь окружающий мир — ничего кроме света, так в ней все затмилось, кроме него».
Искус - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Отвлекаюсь, да, ухожу в сторону, но ведь, в сущности, всё о том же, только с разных сторон. «Отдай самое дорогое» называлась игра твоей журналистки. Ты принес камешки с моря и с полной доверчивостью раскрываешь ладонь, в которой они зажаты. «Какой хороший камешек — подари мне его», — говорит она, и знает же, что просит невозможного, а главное, ей ни на пса не нужен твой камешек. «Я вам лучше вот этот подарю», — лепечешь ты, и — в простоте душевной: «Мне этот самому очень нравится». — «Э, то не подарок, когда что похуже: возьми себе, боже, что мне негоже. А ты подари самое дорогое». Я лихорадочно прикидывал: отца я, пожалуй, мог бы подарить, но этого сказать нельзя. Может быть, мне даже тебя легче было бы в ту минуту отдать, чем этот камушек. И что, если бы я сказал: «А вы — свои бусы?» Но я знал, что она тут же бы протянула их, понимая же, что ты обязательно их вернёшь ей, даже если она мой камешек за это время потеряет. Да и не нужны мне были ее бусы. Да и знал я, что стоит мне это сказать — насчет ее проклятых бус, вы тут же поднимите меня на смех: «Я — вам, вы — мне, это не подарок. Дарят просто».
Я был обложен со всех сторон, даже ты была не за меня. Я бы сказал: «А вашу дочку?», и она тотчас бы со смехом согласилась, а ты бы объяснила мне, что людей не дарят. Я и знал, что всё не взаправду, но тогда зачем такое испытание мне? Я и еще знал или подозревал, что, схитри я и отдай не взаправду мой камешек, она ведь для пущего испытания или из тайной своей зловредности могла его даже выбросить, чтобы еще раз подразнить, какой я плохой. И эта садюга, любительница нравоучительных шуточек, всё тянула и тянула свою игру, и ты с принужденной улыбкой, как бы приучая меня отрывать «от себя», но до конца всё же неуверенная, правильно ли это, неловко поддерживала ее. Зачем, зачем ты, мама, вслед за этой дурочкой, убеждённой, что она держит Самого Господа Бога за бороду, повторяла ее глупости? Ты ведь сама каждый раз напрягаешься, когда я беру просто в руки какую-нибудь дорогую тебе вещь — настолько, что мне иногда хочется разбить её или выбросить за окно, из ревности или из давней обиды, не знаю. Неужели не видишь извращения? Неужто не помнишь у Мачадо: «Христос, умирающий на кресте ради спасения людей, совсем не то же самое, что человечество, распинающее Христа ради своего спасения». Да ведь если я сержусь на тебя за то, что тебе какая-то вещь дороже меня, — это ведь потому, что я сомневаюсь в полноте твоей любви ко мне. А журналистка — из холодного мира этических правил. К доброте не принуждают. Она вызревает сама — если даст Бог вызреть. Ты же помнишь, как я всё дарил Лиле, тебе даже обидно было: «Ты-то ей всё, а она ничего». Вот, вроде и умная ты, и талантливая, а дурёшка же: с одной стороны — будь щедрым, а с другой — но не безответно же. Но зато же, если видела, что я ем сам, а других не угощаю, так и вспыхнешь, и подскочишь, возмущенная. Противно, да? А ведь я, затюканный двором, слабосильный ангелочек, и сдачи дать не могу, когда по мне каждый, проходя мимо, норовит пройтись тычком, подножкой, коленкой, словцом, а мне ещё и есть, когда другие глотают слюнки, решительно запрещено. Нет у меня, затюканного двором, никаких дворовых козырей. Ничего ты в дворовой этике не понимаешь. У тебя Категорический императив: будь добрым, но не безответно. Не понимала? Доброта вкупе со справедливостью: дари и следи, чтоб тебя отдарили. Не хочешь — заставим быть добрым, но люби только таких, которые и сами тебе дарят.
Почему, спрашиваешь ты, я сам насилую к добру, вынуждаю? Наверное, потому же, почему принуждала нас к добру ты. От нетерпения. От непереносимости. Почему я ломал мебель у Овчинниковых? Если по видимости — то по пьянке и глупости. Мебель.
Овчинниковы должны были понять, что они свиньи не в житейском, а в библейском смысле — одержимые бесом псевдожизни и потребительства. Да, я не судья им, но может быть, я орудие в божьей руке, не станет же Бог тратить на них молнии — они сразу полезут смотреть, в порядке ли на крыше их громоотвод. Бог учит их моей яростью и моими руками. Нельзя, чтоб они думали, будто все правильно делают. У них растет мой сын. Прекратим об этом; может быть, я и не прав, но в ту минуту я так понимаю, так вижу. Мама, иногда нужно насилие — когда делается невыносимой жадность и ложь. Ведь эта же ярость не просто так — она откуда-то. Заживо умертвим, картинки рисовать позволим, а думать — это с их точки зрения выпендрёж и безделье. А мне думать важнее, чем рисовать. Я не могу не думать. И не мучиться не могу. Я не судья, да. Но зачем тогда должен смотреть, видеть? Я не сужу — я взрываюсь. Откуда-то эта ярость. Как у жертвенного слона, который все крушит и гибнет. Человек задыхается. Крушит — и облегченье. И стыд, и раскаянье — от них тоже легче становится, чище. Не легче, нет, стыд мучителен — но чище. Это правда, яростный слон жертвен. Оружие даже в руках Бога заранее обречено. Сжигающий сожжется сам.
Мама, я же знал, твоя любовь уже была не та, что раньше. Ты поверила этим козлам, что я несмышленыш, и даже, что я заподло. И что меня надо воспитывать, дотягивать до благородства и доброты. Ты не верила мне. Я же был радостный ребенок, и сам бы все это понял. Зачем ты во что бы то ни стало требовала от меня благородства и доброты. Ты сомневалась во мне и… А я еще лет пяти решил, что испробую все пороки. Не хотел я быть добреньким и жалким. Я хотел сам всё знать и всё выбрать, и чтоб ты меня всё равно любила больше всех.
Но это так, временами. Временами же я даже удивлялся, чего это ради ты меня считаешь своим — я не твое дитя, я дитя другой, божественной сущности.
К приезду Ксении Джо и Влад уже были в Джемушах.
Нужно было с кем-то оставить Януша, чтобы сходить к Джо или даже к Владу, при Януше они с Владом не смогут броситься друг к другу.
Однако о «броситься» нечего было и думать. Влад был у Джо — помогал ему перетаскивать вещи в соседнюю освободившуюся комнату — дверь меж комнатами стояла открытая настежь, и совсем ненадолго друзья оставили свою возню, чтобы обменяться новостями с ней. Да и «обменивался» один Джо, Влад был отстранен и потуплен. Джо шутил, и Ксения шутила — как прыгала по горячим углям. Но что же Влад-то угибается, хоть бы единственный взгляд его поймать на себе. И долго ли будет еще здесь торчать и шутить Джо, — или это уговор? Кто-то кричит в окно:
— Как дела, Миклуха-Маклай? Пятницу на Волге не нашел?
— Профаны! Пятница у Робинзона. У Миклухи-Маклая кто?
— Аборигенки?
— Вот именно. Сходи — не пожалеешь.
Развратник! Небось и Влада втянул. Нет, Влад брезглив. Да так ли уж брезглив? И так ли уж нечисты молодайки? Господи, узнать и уйти, больше уже ничего не надо. Джо, ну уйди…
И словно услышав ее тайный призыв, Джо охлопывает карманы:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
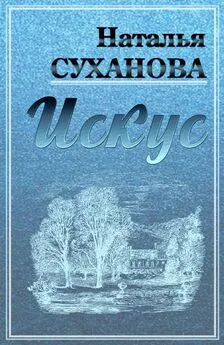






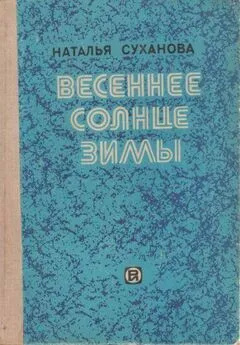
![Наталья Суханова - Вода возьмет [СИ]](/books/1143085/natalya-suhanova-voda-vozmet-si.webp)
![Наталья Суханова - Синяя тень [сборник рассказов : СИ]](/books/1143087/natalya-suhanova-sinyaya-ten-sbornik-rasskazov-s.webp)
