Наталья Суханова - Искус
- Название:Искус
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Суханова - Искус краткое содержание
На всем жизненном пути от талантливой студентки до счастливой жены и матери, во всех событиях карьеры и душевных переживаниях героиня не изменяет своему философскому взгляду на жизнь, задается глубокими вопросами, выражает себя в творчестве: поэзии, драматургии, прозе.
«Как упоительно бывало прежде, проснувшись ночью или очнувшись днем от того, что вокруг, — потому что вспыхнула, мелькнула догадка, мысль, слово, — петлять по ее следам и отблескам, преследовать ускользающее, спешить всматриваться, вдумываться, писать, а на другой день пораньше, пока все еще спят… перечитывать, смотреть, осталось ли что-то, не столько в словах, сколько меж них, в сочетании их, в кривой падений и взлетов, в соотношении кусков, масс, лиц, движений, из того, что накануне замерцало, возникло… Это было важнее ее самой, важнее жизни — только Януш был вровень с этим. И вот, ничего не осталось, кроме любви. Воздух в ее жизни был замещен, заменен любовью. Как в сильном свете исчезают не только луна и звезды, исчезает весь окружающий мир — ничего кроме света, так в ней все затмилось, кроме него».
Искус - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Заезжайте к нам, если будет скучно.
Чем-то этот человек не нравился писателю, и он ответил сухо:
— Я уже вышел из того возраста, когда бывает скучно.
Как славно сказал! Байрон и Лермонтов, возможно, хороши, но после них скуку и разочарование носят как ордена.
«Заезжайте, если будет скучно» — «Я уже вышел из того возраста, когда бывает скучно».
Россыпью знакомых уже домашних огней встречали ее Озерища.
А еще случайная встреча.
Проходящий поезд стоял на станции всего несколько секунд. Юбка у Ксении была модная — узкая и длинная, в руке чемоданчик, а подножка на уровне груди. Пока Ксения суетилась, примеряясь, как лучше взгромоздиться, поезд тронулся. Какой-то мужчина высунулся из вагона, втянул ее с чемоданчиком в тамбур. Он очень смеялся над ее злоключениями, и она тоже смеялась, так что в вагоне — час был поздний и почти все дремали — начали открывать глаза и поглядывать на них недовольно. Но от этого было еще смешнее. Потом они поуспокоились, хотя время от времени их все же разбирал смех, теперь уж совсем беспричинный. В тусклом свете, падающем от керосиновой лампы в соседнем купе, видно было смутно. Все же она присмотрелась. Лет ее попутчику было, пожалуй, под сорок, или, во всяком случае, за тридцать. Один глаз — или вставленный, или испорченный. И все-таки он был очень приятен, ее попутчик, подкупающе открыт что ли. И смеялся — как дети, легко и безудержно. И о том, кто же она все-таки по специальности, спросил тоже легко, с детским любопытством. А она в ответ соврала. Не из досады к его любопытству, а просто — до тошноты не любила бесед на юридические темы. И чтобы не углубляться в разговор о вымышленной своей профессии, принялась расспрашивать его. Он отвечал охотно. Учился в Ленинграде. Ушел из института на фронт. Был ранен, взят в плен. В лагере умирал с голоду, когда объявили набор во Власовскую армию. Договорились с товарищами, что запишутся, но воевать со своими ни часу не будут. Удастся — перейдут всей частью к своим, не удастся — ну что ж, умрут, но не задешево, с оружием в руках, а не в лагере, без толку, с голоду. Однако, удалось. Перешли, сдали оружие, попали в лагеря. Был в Воркуте, потом на Дальнем Востоке. Сейчас освобожден, без права проживания в больших городах.
— Не обидно?
— Нет, не обидно, — ответил он сразу, как давно обдуманное. — Я жив, и совесть у меня чиста, а остальное по сравнению с этим — пустяки.
— Вам часто не доверяют?
— Бывает, конечно. По долгу службы особенно. Но чаще верят. Как вы вот.
А она как раз думала, что до конца никогда бы не смогла ему поверить: в рассказах о себе всегда есть что-то смягчаемое, преобразуемое или просто опускаемое, и лазутчики должны ведь быть простодушны и обаятельны. А еще — и это все-таки главное — ему самому и тем, кто решился бы связать с ним жизнь, закрыта, прикрыта любая дорога. Искоса она взглянула ему в лицо, в его единственный глаз, и ей стало стыдно. И все же…
А он рассказывал о Воркуте и Дальнем Востоке. Рассказывал, как рассказывают мечтающие писать, с восторгом точного сравнения, удачного слова:
— Вот говорят: «Небо покажется с овчинку» — в переносном смысле, правда же? А я в самом прямом смысле видел: небо с овчинку. Накануне сидели мы у депо, и снег падал — такой мягкий, пушистый, совсем весенний. Зимой снег не такой. Зимой ходишь в маске с дырками для глаз, в ушах звенит от мороза, и ночь, полярная ночь. И снег жесткий. А тут вот сидели и падал пушистый, мягкий снег, и воздух был голубой — нигде кроме Воркуты не видел я такого голубого воздуха. А на другой день пришла низкая черная туча. И горизонт — кажется, шагни, и упрешься в него. Земля — с овчинку, и небо — с овчинку. Гром грохнул, молния сверкнула раза три, как в кухне, на таком вот пятачке — хлынул дождь и наступила весна. Ну уж весна так весна, я вам скажу! Солнце круглые сутки — вот уж воистину круглые — по небу кружит. Говорят: «Слышно, как трава растет». Тоже ведь в переносном смысле говорят. А там — в прямом. Прислонишь к земле ухо и слышишь; вжить! вжить! вжить! — лезет к свету. На глазах растет — земля шевелится. На другой день придешь — всё сплошь трава кроет, и всё тянется, лезет вверх, так что дня через три уже по грудь. И цветов такая масса: не то что земли — травы под ними не видать. А дней через двадцать ударит первый ночной морозец, второй, третий. Листва березок станет желтовато-серебряной — тоже, я вам скажу, сказочное зрелище. А потом почернеет, съежится — и всё, прощай, полярное лето!
Когда-то было уже так: рассказываемое представляла она ярче, чем если бы видела сама. Только то было не о тундре — об Эльбрусе. Вспомнила: «Лучшая половина мира», Лёша-альпинист, если она не перепутала имя. Как она тогда радостно чувствовала, что не успела повидать лучшей половины мира! Да вот, не видела она и тундры, не видела северных сияний, которые — как огромная гармошка, не видела воздуха голубого, какого больше нигде не бывает, не видела весеннего неба — с овчинку.
А сосед уже о Дальнем Востоке рассказывал:
— Свежевальщики здорово работают. Не улавливаешь отдельных движений, — ему двое едва успевают подавать. Рыба и ножи сверкают на солнце.
Серебряно вспыхивало море, серебряной рекой текла по берегу рыба, серебряно сверкали ножи. Пахло рыбой и морем.
— Вы не пишете? — спросила Ксения.
— В молодости писал, — сказал, смеясь, воркутинец. — Я в молодости манией величия был одержим. Но вот как-то попал в Щедринскую библиотеку: не в читалку, а в хранилище, в зал античной литературы. Я думал: там и сохранилась-то всего ну сотня, ну тысяча рукописей. А там столько — в десять жизней не прочесть. А ведь это только один зал — из самых маленьких. И я понял: бессмысленно! Бессмысленно писать. Всё, что можно, уже написано.
Его искусственный глаз показался ей вдруг усмешливо-бездушным раньше, чем она поняла, что в его словах так неприятно ей.
— Еще, знаете, думать я любил в юности, — продолжал он. — А теперь некогда. Смотреть — и то не успеваешь. А смотреть — невероятно интересно…
Ксения сошла раньше его. Он вышел в тамбур проводить ее — и живой его глаз смотрел на нее нежно и растерянно.
— Мне было так хорошо с вами! — сказал он ей по-детски горячо. — Можно мне как-нибудь приехать к вам?
— Я замужем, — сказала она, улыбаясь как можно мягче. — И муж у меня, увы, ревнивый.
Не нужно было ей, адвокату, такого сомнительного знакомства. Вообще ей не нужно было долгих знакомств. Старое заблуждение: будто, чем дольше знают друг друга люди, тем ближе, понятнее. А они вот с этим приятным дядькой соприкоснулись душами — и больше не надо. Большее ничего не прибавит к этому.
«И я понял: бессмысленно. Всё-всё уже написано» — вот что саднило в ней еще долго. Эти подвалы-хранилища (она их подвалами представляла), эти библиотеки, в которых столько собрано, что уже забывается и теряется, мучили воображение. «Всё уже было некогда в веках, и новое — не что иное, как основательно забытое старое» — кто-нибудь в очередной раз обязательно продекламирует тебе нечто подобное. Да, она давно знала имя этой философии: леность мысли, желанье покоя, часто снобизм и кокетничанье. Но прежде всего, конечно, лень: всё, мол, уже наличествует, и ничего нельзя да и не стоит менять, ничего нельзя испортить, и нет опасности что-нибудь пропустить, тут не убавить, не прибавить. Да, желание прочного миропорядка или, если уж мир непрочен, то мстительное утверждение, что это движение мнимое, суетное. И рядом с этими суетным, бессмысленно клокочущим миром пребывает неизменная вечность.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
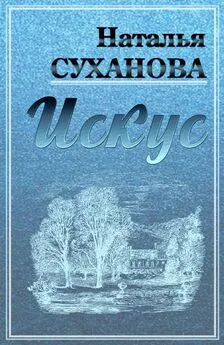






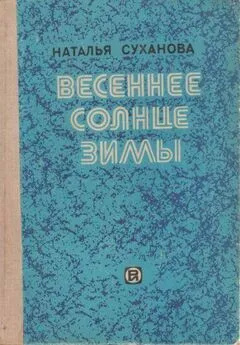
![Наталья Суханова - Вода возьмет [СИ]](/books/1143085/natalya-suhanova-voda-vozmet-si.webp)
![Наталья Суханова - Синяя тень [сборник рассказов : СИ]](/books/1143087/natalya-suhanova-sinyaya-ten-sbornik-rasskazov-s.webp)
