Наталья Суханова - Искус
- Название:Искус
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Суханова - Искус краткое содержание
На всем жизненном пути от талантливой студентки до счастливой жены и матери, во всех событиях карьеры и душевных переживаниях героиня не изменяет своему философскому взгляду на жизнь, задается глубокими вопросами, выражает себя в творчестве: поэзии, драматургии, прозе.
«Как упоительно бывало прежде, проснувшись ночью или очнувшись днем от того, что вокруг, — потому что вспыхнула, мелькнула догадка, мысль, слово, — петлять по ее следам и отблескам, преследовать ускользающее, спешить всматриваться, вдумываться, писать, а на другой день пораньше, пока все еще спят… перечитывать, смотреть, осталось ли что-то, не столько в словах, сколько меж них, в сочетании их, в кривой падений и взлетов, в соотношении кусков, масс, лиц, движений, из того, что накануне замерцало, возникло… Это было важнее ее самой, важнее жизни — только Януш был вровень с этим. И вот, ничего не осталось, кроме любви. Воздух в ее жизни был замещен, заменен любовью. Как в сильном свете исчезают не только луна и звезды, исчезает весь окружающий мир — ничего кроме света, так в ней все затмилось, кроме него».
Искус - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ксения бессильно огорчилась:
— Зачем же вы так сказали? Ваня, а Ваня, неправда это.
Зыркнув на нее, Ваня выскочил из дома.
— Я вот теперь и идти боюсь, — призналась потерянно Ксения.
— А что ж? Встренет — поколотит, — вроде как пошутила тетка Маня.
— Что же, и вы обижаетесь?
— Я не серчаю, — сдалась тетка Маня. — Нам и то другораз страшно. А тебе-то што мучиться? Леша проводит, не бойся. Заходи, доча. Что ж, коли так вышло. Я по тебе скучать буду — душа в душу с тобой жили.
И у Ксении не повернулся язык обиду высказать.
Новая хозяйка Татьяна Игнатьевна была человек другого совсем склада и другой судьбы. Тоже дочь и три сына, тоже вдова, но муж ее не погиб на фронте, а умер в собственном доме, и берег он жену всю жизнь до последнего своего дня, и сыновья Татьяны Игнатьевны: один — инженер, другой — полярный исследователь, младший — летчик, были здоровы и благополучны, и дочь жила за мужем-майором в Москве. И в доме у Татьяны Игнатьевны был уют, какого в Озерищах почему-то Ксения не предполагала: мебель, собственно, самая простая, и стены дощатые, шпаклеванные, но в комнатах и письменный стол, и стулья, и шторы. И дом стоял не на пустынном взгорке, как у тетки Мани, а в саду — в окна смотрели коричневые упругие ветви, а не сиротливый суглинистый огород. Было крыльцо с навесом, туалет с бумажками, наколотыми на ржавый гвоздь. Был по вечерам самовар с заварным чайником. Была сама хозяйка в маленьких, ладных валенках, в мягком пуховом платке, с румяными щечками-яблочками, со смешливыми серыми глазами, с молодыми вставными зубами.
Вела Татьяна Игнатьевна тот размеренный образ жизни, который так настойчиво рекомендуют врачи. Всему у нее было свое время: завтраку и обеду, послеобеденному отдыху и чаепитию, прогулкам и несложным домашним делам. Тяжелую работу — вымыть полы, постирать, вскопать сад, наготовить дров — делала приходящая женщина Нюра. Вставала Татьяна Игнатьевна в семь часов, растапливала печку с вечера заготовленными Нюрой дровами, готовила себе что-нибудь, неторопливо съедала, потом ложилась отдохнуть. Отдохнув, поднималась, мыла посуду, обтирала пыль и выходила подышать воздухом. Посидев на скамеечке под навесом, не спеша подходила к калитке. Стояла, оглядывая зоркими глазами улицу, подзывала кого-нибудь из проходивших:
— Фрося, а Фрося, подойди-ка сюда. Что я хочу спросить… правда, что от Гаши муж ушел?.. Ай-яй, скажите пожалуйста! Как же это? А я думаю, чего же это его не видно последнее время. Куда же он ушел-то? Не к Рыбаковой ли? Значит, к ней? Да у нее же и у самой двое детей? Старший — в ФЗУ? Да что ты говоришь! А давно ли вот такой сопливый бегал? Значит, одно дите теперь при ней… Фрося, а чего же он от Гаши-то ушел? Она, я знаю, работящая, аккуратная… Скажи ты, надо же! А я думаю, чего это его не видно последнее время!
И глаза ее молодо блестели любопытством. Потом она проходила по саду, кое-где поднимая какую-нибудь щепку, обломанную ветку. Но если ветка застревала и тащилась туго, оставляла ее. Точно так же оставляла Татьяна Игнатьевна интересную книгу, если книга волновала ее.
Вечерами за самоваром, — Ксении нравились эти вечерние, после работы чаепития, — хозяйка расспрашивала Ксению о том, о сем, Постепенно Ксения увлекалась рассказом, но хозяйка вдруг останавливала ее:
— Хорошо вы рассказываете, Ксенечка. Я всегда так заслушаюсь вашего голоса — даже дремать начну. Вы идите, читайте, а я — в постель. Если пересижу, потом не уснуть, тогда одно спасение — сладкая водичка.
Ни чужих несчастий, ни покойников не боялась Татьяна Игнатьевна. Рассказывала однажды, как умер ее муж, похоронили, разъехались дети, вечером вошла она в комнату в сумерках, а покойный в углу у окна стоит, сделалось ей жутко, но подумала она: «Я же его любила, чего же мне его бояться, если это даже он?». Ушла лампу зажигать, а вернулась — его уже нет. Во всем была размеренна и трезва новая хозяйка, кроме страха собственной смерти. Иногда будила ночью Ксению, просила дать лекарство, посидеть возле. Губы и руки у нее дрожали, взгляд ни на чем не останавливался. Рот без вставных зубов был шамкающий, проваленный.
— Подложите мне подушку под спину, — просила она и, вся видная в глубокий вырез ночнушки, спускала голые ноги с постели, цепко сжимала руку Ксении.
Потом ей становилось лучше, она смущенно улыбалась, отпускала Ксению спать:
— Вы уж не сердитесь.
Этот потрясающий хозяйку страх смерти был напрямую связан и с размеренностью ее существования, и с некоторой черствостью — из-за него она избегала частых встреч с семьями детей, так же, как тревог о них.
Соседки по улице ее не любили. Подзывали иногда Ксению, точно так же, как Татьяна Игнатьевна какую-нибудь Фросю или Катю.
— Ну как живешь? — спрашивали они. — Спину-то барыне чешешь?
Беречь себя, бояться смерти — и то, значит, барыней быть? Или это от того, что жила Татьяна Игнатьевна легче их, просторнее? Ах, да ну их всех! Главное, здесь у Ксении была, хоть и без двери, но своя, отдельная, не проходная комнатка с двумя, на выбор, кроватями, со столиком, стулом и уютнейшей в холодные вечера лежанкою. Был покой — были письма от Виктора, ровные, довольно частые. И было какое-то, еще сомнительное, освобождение от его власти, легкое беспокойство, когда письмо задерживалось, и почти забывание, когда письма были. Она, как вода, пробившая подземный выход из каменной пещеры, была и здесь, в тюрьме, и там, снаружи, на широкой воле.
В те часы, когда хозяйка уже сладко спала, об окно же поскрипывала невидимая ветка, а здесь, в комнате круг света от керосиновой лампы и живое тепло лежанки, — сколько сомнений и восторгов пережила Ксения, читая Байе и Эренбурга, Ромен Роллана и Блока, Толстого и Гете, Стендаля и Голсуорси, а главное — Гегеля. И все они перекликались друг с другом, соединялись и спорили. И это было «отрицательное соотношение с собой», «живое и духовное самодвижение» человечества, которое она сейчас вмещала в себя. Вот он, Негели, с его униженностью перед пространствами пространств, и она сама всего несколько лет тому назад с ее поэмой, с ее надеждой для человечества вырваться из ограниченности, стать соизмеримым со Вселенной, и Кант, с его тупиковыми антиномиями, с его «дурной бесконечностью» (абстрактной, а значит бессильной), и Машенька Ружницкая, все бегущая и бегущая вдоль нескончаемых пространств, и, наконец Гегель: «Нетерпеливое желание… выйти за пределы определенного и оказаться непосредственно в абсолютном не имеет… ничего перед собой, кроме пустой отрицательности» — и разве это не о религиях, восточных и западных, не о Толстом, с его отвращением к посюсторонней, здешней, «неистинной» жизни? И разве не выходит Толстой за эту «пустую отрицательность», едва он восходит к конкретному? «Самое богатое, — пишет Гегель, — есть поэтому и самое конкретное и самое субъективное». Белая обезьяна Голсуорси, высасывающая плод и тоскливо взирающая на кожуру — разве это не о потребительском существовании, высасывающем минуту? Жизнь как творчество, или смерть — таков Мир. Идти в аспирантуру по философии, чтобы заняться всем этим всерьез и надолго? Она любила эту вдруг возникающую горячность мысли и планов. Но больше того любила, хотя и опасалась, «озарений» — света, радости, такой мощной, что на минуту все остальное бледнело, обесцвечивалось, как при магниевой вспышке. Это было больше, чем музыка, чем Бах и Бетховен. От Бетховена могли быть только слова: «Музыка — большее откровение, чем любая философия. Нет ничего выше, чем соприкоснуться с Господом, озарять отблеском его божественного сияния все человечество». А ведь и в самом деле, музыка — как бы прикосновение к высшему, и диалектик при этом от фидеиста отличается тем, что верующий признает только одну, более высокую, чем Человек, ступень, диалектик же говорит: «Да, может существовать высшая степень, но и еще, и еще выше может быть. Как говорил умирающий Пушкин: «Да, выше, выше». Людвиг склонялся над нею: «Когда я смотрю на «Сикстинскую мадонну», что мне еще? Что может быть выше?». И, сжавшись сердцем, она все-таки отвечала: «Обезьяна тоже не могла бы предвидеть «Сикстинской мадонны». Вперед мы можем понимать и разуметь только по линии количественных накоплений — качественный скачок непредвидим».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
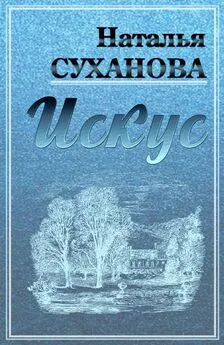






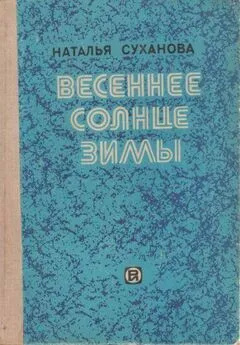
![Наталья Суханова - Вода возьмет [СИ]](/books/1143085/natalya-suhanova-voda-vozmet-si.webp)
![Наталья Суханова - Синяя тень [сборник рассказов : СИ]](/books/1143087/natalya-suhanova-sinyaya-ten-sbornik-rasskazov-s.webp)
