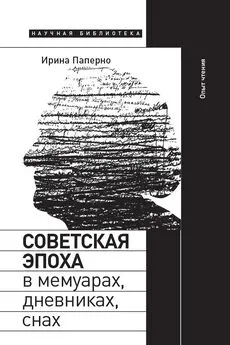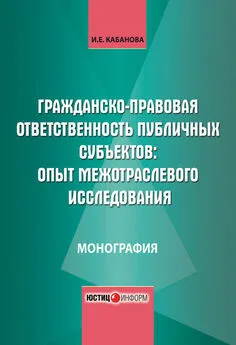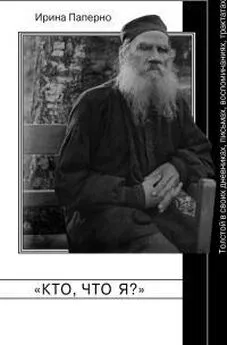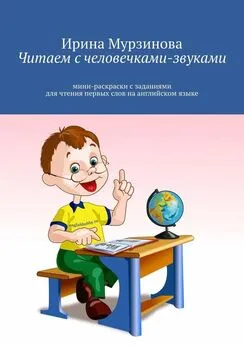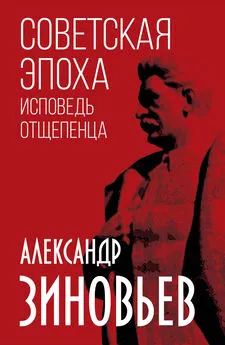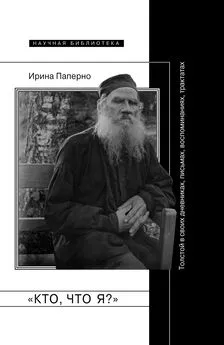Ирина Паперно - Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. Опыт чтения
- Название:Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. Опыт чтения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444814888
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Паперно - Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. Опыт чтения краткое содержание
Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. Опыт чтения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Много лет спустя, когда Чуковская и Ахматова после десятилетнего перерыва возобновили дружескую связь, они снова столкнулись с противоречивой ситуацией больного интеллигента в привилегированной советской больнице. В феврале 1958 года, во время скандала вокруг «Доктора Живаго», они обсуждали ситуацию Пастернака, который был тогда тяжело болен. Чуковская подробно доложила о коллективных усилиях устроить его в правительственную больницу. Ахматова перебила ее:
– Когда пишешь то, что написал Пастернак, не следует претендовать на отдельную палату в больнице ЦК партии.
Это замечание, логически и нравственно будто бы совершенно обоснованное, сильно задело меня. Своей недобротой. Я бы на ее месте обрадовалась. <���…>
– Он и не претендует, – сказала я тихим голосом. – <���…> Пастернак даже в Союз <���писателей> не велит обращаться, не только выше… Ему больно, он кричит от боли, и все. Но те люди кругом, которые любят его (тут я слегка запнулась), вот они действительно претендуют. Им хочется, чтобы Пастернак лежал в самой лучшей больнице, какая только есть в Москве (2: 276).
В разговоре с Ахматовой Чуковская не напомнила о ее пребывании в правительственной палате в Ташкенте, но в дневнике зафиксировала свою память об этом эпизоде и свое моральное суждение:
В Ташкенте, заболев брюшным тифом, Анна Андреевна <���…> была очень довольна, когда, усилиями друзей, ее положили в тамошнюю «кремлевку», в отдельную палату…
Помнит ли она об этом? Забыла?
Нет, я радуюсь сейчас за него, как счастлива была тогда за нее, что она в человеческих – т. е. привилегированных – условиях, а не в «демократических», которые у нас, увы! равны бесчеловечным (2: 277).
Повторение этой ситуации – тяжелобольной поэт в правительственной палате – прояснило для Чуковской трагический парадокс института привилегии, когда речь шла о жизни и смерти. Целью было сохранить жизнь, не уронив при этом морального превосходства интеллигента в конфликте с властью. Этого можно было достичь следующим путем: поэт не должен был ни на что претендовать, а окружающие его люди брали на себя «хоровое пение перед властью», чтобы добиться привилегированных условий (ибо только привилегированные условия были «человеческими»). Это накладывало особые обязательства на отношения дружбы и близости. Для поэта, а тем более для друга, было отнюдь не легким делом сохранять тонкий баланс между одновременным отвержением и принятием привилегии.
Вернемся в Ташкент военного времени. Как показывают дневниковые записи, кроме культурно-исторических, существовали и другие, также противоречивые чувства (любовь и ревность), которые способствовали кризису в отношениях, обострившемуся с болезнью Ахматовой. Но для Чуковской как хроникера и бытописателя важно было зафиксировать и отрефлексировать именно социально-культурный смысл сложившейся ситуации. Согласно ее интерпретации, именно нарушение этических принципов, связывавших членов группы перед лицом враждебной власти, привел к невозможности продолжать и близкие отношения с Ахматовой, и ведение исторической хроники жизни великого поэта и друга. Тонкий баланс двойственности и двусмысленности оказался нарушен. Перед разрывом Чуковская зафиксировала в дневнике свое окончательное моральное осуждение NN, спровоцированное именно ее поведением во время болезни:
Последняя моя запись об NN – о человеке. Как человек она мне больше не интересна. [Несколько строк вырезано. – Е. Ч .] Что же осталось? Красота, ум и гений. Немало – но человечески это уже неинтересно мне. Могу читать стихи и любоваться на портреты (1: 514).
Эта запись, сделанная 11 декабря 1942 года (часть первоначальной записи была зачернена или вырезана из дневника), – последняя из того, что напечатано дочерью Чуковской (Еленой Чуковской) после смерти автора. Тогда в Ташкенте, NN, выздоровев от тифа, откровенно избегала Чуковскую, которая еще недавно была ее ближайшим другом и помощником. Они расстались, «не выясняя отношений, не узнавая причин» (2: 21).
Обратим внимание на парадокс. Не сплетни, которых так опасалась Чуковская, а именно ее дневник, «Ташкентские тетради», открыл взорам исполненную противоречий интимную жизнь Ахматовой в военные годы, и не только необузданное веселье и вольность сексуальных нравов (вопреки «естеству»), напоминавшие ее богемную юность, но и трусость перед лицом смерти, капитуляцию перед привилегией (то есть властью) и нелояльность к старым друзьям, включая и погибшего Мандельштама (как это виделось Чуковской).
В конце концов, чувство освобождения, которое овладело ими в начале войны, когда, в отличие от страшных лет террора, страх, лишения и опасность для жизни разделялись со всем народом, не было продолжительным. Судя по дневнику Чуковской, для Ахматовой чувство опасности и ощущение, что она постоянно находится под наблюдением (если не органов госбезопасности, то соседей по общежитию), были неотступны. Во время войны, в эвакуации, Сталин и Гитлер сообща создали ситуацию, не только угрожавшую жизни, но и разъедавшую и сложный баланс амбивалентности, которого требовало социальное положение Ахматовой и Чуковской, и тонкую ткань интимности, которая связывала членов этого сообщества между собой. Присутствие помощника и свидетеля, и притом своего рода «Эккермана», записывавшего ее разговоры (и многое другое), оказалось невыносимым. Записки Чуковской об Ахматовой прервались в декабре 1942 года.
«Началась новая эпоха»: после 1953 года
Чуковская и Ахматова возобновили дружбу в июне 1952 года. Теперь они встречались в основном в Москве. Чуковская, потеряв ленинградскую прописку, вынуждена была уехать из Ленинграда. Ахматова, которая в Ленинграде опять жила с семьей Пунина, часто наезжала в Москву и подолгу жила у друзей. После знаменитого Постановления оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» в августе 1946 года (где Ахматова была названа «типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии») она опять оказалась в немилости. Ее положение стало улучшаться после смерти Сталина, включая и жилищные условия. Так, осенью 1953 года Союз писателей обещал ей комнату в Москве (обсуждался вариант, при котором она бы поселилась в одной, то есть коммунальной, квартире с Надеждой Мандельштам). Но Ахматова колебалась. Она привела старый аргумент: «если она переедет <���…> – в ее комнату в ленинградской квартире кого-нибудь непременно поселят и, таким образом, Ирина <���Пунина> окажется в коммунальной квартире» (2: 75). Но Чуковская думала, что дело не только в этом: «Анна Андреевна жить одна не в состоянии» (2: 75). У Ахматовой было другое объяснение: «Я потеряла оседлость. <���…> Я в Питере не дома и здесь не дома» (2: 362). Бездомность стала и привычным для нее состоянием, и сознательной позицией.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: