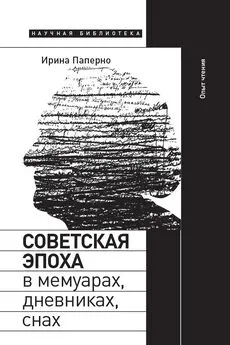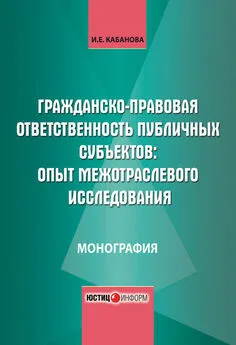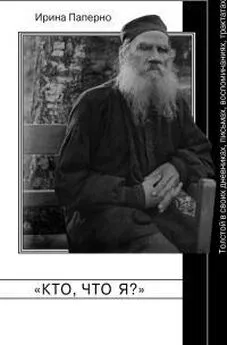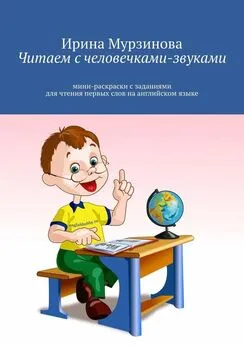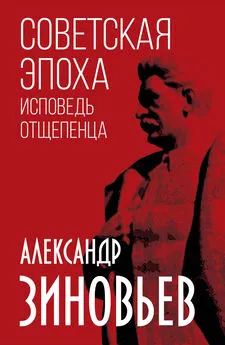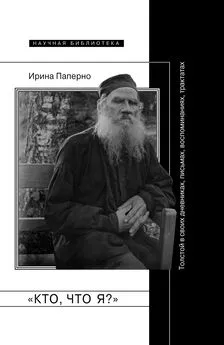Ирина Паперно - Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. Опыт чтения
- Название:Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. Опыт чтения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444814888
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Паперно - Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. Опыт чтения краткое содержание
Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. Опыт чтения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В начале ноября Ахматова заболела брюшным тифом. В записках Чуковская сетовала на то, что заботы о больной взяли на себя некомпетентные люди, «шумная и неумелая» Раневская (к которой Чуковская испытывала явную неприязнь) и Надежда Мандельштам («преданная, но – неряха») (1: 496). Чуковская бросилась в правительственную поликлинику за лекарствами. Тем временем соседи по Дому писателей беспокоились за себя, заподозрив, что болезнь Ахматовой заразна. (Чуковская зафиксировала их имена в своих записках.) Она также заметила: «Лучше бы уборную вычистили, клоаку эту» (1: 495). (В предвоенных записках Чуковская использовала образ помойной ямы как метафору коммунальной квартиры [1: 180]; теперь же эта метафора получила реализацию.) Условия в общежитии писателей в самом деле были антисанитарными, но Ахматова страшно боялась больницы. Что было делать? Решение не зависело от Чуковской: «Я теперь там только визитер, а не капитан» (1: 497). (В прошлом Ахматова часто называла Чуковскую, свою главную помощницу, «мой капитан».) Чуковская с неодобрением отмечала, что все делалось неправильно. Ее также шокировало поведение Ахматовой – боится смерти, раздражительна, несправедлива к тем, кто старается ей помочь (1: 497).
В этой ситуации Чуковская и другие изо всех сил старались «добиться для NN привилегированной больницы» (1: 498). Добивались и денег. Реакция Ахматовой на эти хлопоты не была однозначной. Так, она негодовала по поводу обращения к Толстому: «Кто смеет бегать и клянчить от моего имени? <���…> Неужели я прожила такую страшную жизнь, чтобы потом так кончать?» (1: 498). С помощью коллективных усилий – Чуковская назвала этот акт «хоровое пение перед властью» (1: 512) – удалось поместить Ахматову в особую палату обычной больницы. Всю дорогу в машине Ахматова сердилась. Однако в тот же день Чуковская узнала нечто, что противоречило этой позиции и чего (по ее словам) она не хотела бы слышать. Надежда Яковлевна, очень расстроенная, рассказала ей о разговоре с NN, и Чуковская записала ее слова от первого лица:
«NN объявила мне, что так как она помещена в правительственной палате, то она не считает возможным, чтобы я ее посещала. Не думаете ли Вы, что такая осторожность излишня? Я думаю, Осип на такое способен не был» (1: 499).
(Подразумевается, что как жена «врага народа» Надежда Мандельштам являлась persona non grata в правительственной палате больницы.) Чуковская добавляет к этой записи от себя, обращаясь к Ахматовой, как будто сценическим шепотом: «О бедная моя. Ведь я не сумею „забыть и простить“» (1: 499). (Заключенная в кавычки фраза «забыть и простить», как указано в подстрочном комментарии, отсылает к стихотворению самой Ахматовой.)
Уход за Ахматовой, отмечает Чуковская, был отличный (директор Правительственной поликлиники прислал особую сиделку и звонок) (1: 504). Однако моральное состояние Ахматовой не радовало Чуковскую, и она записывала свои наблюдения. Надежда Яковлевна рвалась в больницу, но NN не хотела допустить ее. Чуковская считала эту предосторожность излишней, и ей казалось, что Ахматова преувеличивает свою известность: «В больнице ни один человек даже ее-то фамилии не знает, а уж фамилии Н. Я. – тем более» (1: 504). Чуковская затем описала состояние Ахматовой в виде замечательной формулы, в которой объект раздвоился: «Очень, очень NN бережет АА. И это мне неприятно» (1: 504). (Напомним, что Ахматову многие, включая и Чуковскую, называли на письме «АА», но в «Ташкентских тетрадях», ради конспирации, Чуковская писала в основном «NN».) Не только в отношениях между двумя женщинами, но в положении самой Ахматовой возникла двойственность, и эта двойственность становилась все нагляднее в записках Чуковской, с их сложной формой.
Чуковская осуждала NN и за жестокость к любившему ее человеку (Гаршину), который к тому же олицетворял «Ленинград»:
Раневская сообщила мне текст телеграммы в Ленинград, Лидии Гинзбург: «Больна брюшным тифом подготовьте Гаршина». Очень безжалостно все-таки. Ведь в Ленинград! (1: 501).
На следующий день NN продиктовала Раневской (которая теперь постоянно находилась при ней) текст письма к Гаршину и затем, через Раневскую, попросила Чуковскую переписать письмо своей рукой (Гаршин хорошо знал Чуковскую, а Раневская была ему незнакома). Чуковская исполнила это поручение, а затем записала текст письма по памяти в свой дневник (1: 502). Даже когда близость между ними рушилась под воздействием обиды и ревности, с одной стороны, и морального осуждения, с другой, Чуковская продолжала свою историческую хронику интимной жизни Ахматовой (не сообщая ей об этом) и приводила документальные свидетельства, такие как письмо к возлюбленному, доверенное ей через посредство соперницы.
Сложившаяся ситуация была исполнена неразрешимых противоречий. Не подготовленные для печати ташкентские записи показывают и историческую ситуацию, и личную драму Чуковской с безжалостной откровенностью. Чуковская регистрирует, но никак не комментирует сложную эмоциональную динамику, возникшую в ее отношениях с Ахматовой. Как она понимала свои чувства к Ахматовой? Об этом мы можем только догадываться. Чуковская называла свои чувства любовью, в полном смысле этого слова (1: 450). Однако в тех замечаниях о разворачивавшейся драме, которые Чуковская делала в записках, тема любви и ревности почти не затрагивается, а доминируют социальные и политические аспекты ситуации, а также моральные суждения. Записки показывают двойственность их социального положения. Во время войны, когда они пользовались относительной передышкой в терроре, члены этого сообщества находились, как и во время террора, в ситуации опасной для жизни, но теперь они жили под защитой советских институций. Это создало особое моральное напряжение. Конфликт ценностей и интересов наиболее ясен в эпизоде с госпитализацией. Ситуация была особенно острой для Чуковской. Страстное желание спасти жизнь Ахматовой столкнулось с отвращением, которое она испытывала к привилегиям, предоставлявшимся писателям советским правительством. Ожидая, что и Ахматова разделит ее чувства, она оказалась в тисках парадоксального желания. То, чего она желала, было недостижимым: она хотела, чтобы Ахматова принимала те практические преимущества, которых Чуковская и другие добились для нее путем «хорового пения перед властью», но отвергала при этом самый принцип привилегии. Записки Чуковской об Ахматовой, дневник на двоих, обнажают эти противоречия помимо интенций самого автора.
Судя по записям, в течение некоторого времени удавалось поддерживать это двусмысленное положение – хлопоты о спасении Ахматовой шли своим чередом, при содействии Чуковской, а Ахматова продолжала настаивать, что не хочет ничем быть обязанной представителям власти. Кризис наступил, когда Надежда Мандельштам пожелала навестить больную Ахматову в правительственной палате. Отказавшись принять вдову Мандельштама, погибшего в лагере, Ахматова нарушила ключевое табу. Ее жест угрожал этосу сообщества, сложившего в условиях катастрофы, в пределах которого не только интимная связь между привилегированными и лишенцами, но и нерушимая связь между живыми и мертвыми была важнейшим принципом. Страдальческая тень «Осипа» стала между ними. Для Чуковской это было еще одним предательством, более страшным, чем личная нелояльность, и ее чувства были сильнее любви и ревности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: