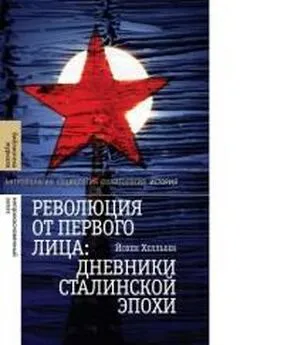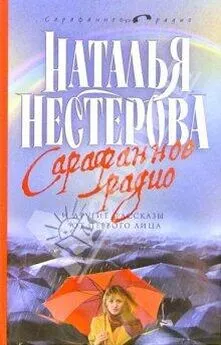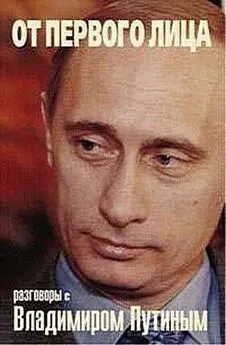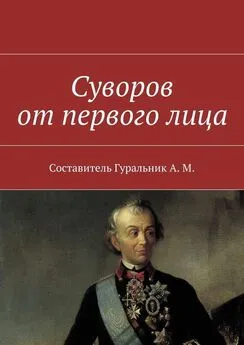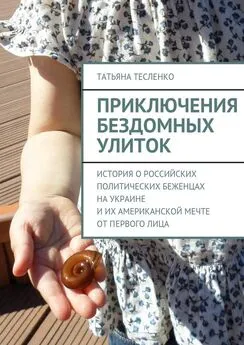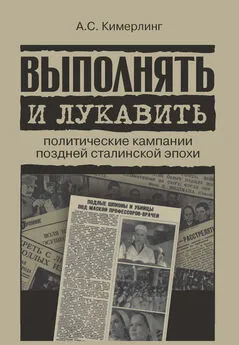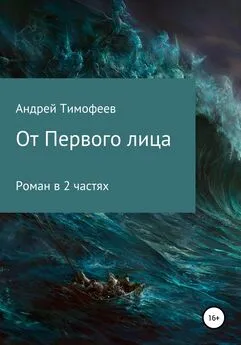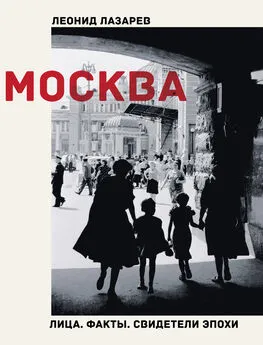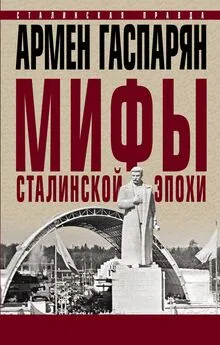Йохен Хелльбек - Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи
- Название:Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Йохен Хелльбек - Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи краткое содержание
Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
ГЛАВА 8 СТРЕМЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАТЬ БОРЬБУ
Годы сталинского правления, безусловно, являются одной из самых жестоких глав в истории ХХ столетия. Коммунистический режим разрушил бесчисленное количество жизней и причинил страдания, до сих пор полностью не оцененные. Личные днев-ники сталинской эпохи, в большом числе обнаружившиеся по-сле открытия советских архивов, демонстрируют со множеством ярчайших подробностей, как насильственные практики режима становились частью жизни советских граждан, часто заканчи-вающейся катастрофически. Однако многие из этих дневников исполнены потрясающим стремлением к самовыражению и са-мореализации в условиях массовых репрессий. В них отражено желание их авторов включиться в тот самый поток революци-онной мысли и действия, который оказался столь разрушитель-ным как для других людей, так и для самих авторов многих дневников. Связь самовыражения и террора в создании этих личных записей раздражает современных западных читателей и требует объяснения. Изучение дневников сталинской эпохи по-казывает притягательность коммунистической идеологии для са-мосознания личности. Активисты-большевики призывали всех советских людей принять программу революционного преобра-зования и в процессе этого преобразования преобразовывать самих себя. Принадлежность к сообществу революционеров и помощь в осуществлении законов истории обещали интеллекту-альную, нравственную и эстетическую самореализацию. Авторы многих дневников включались в проведение революционной по-литики, видя в ней способ обретения личного голоса, иными словами — собственной «личности», «биографии» или «миро-воззрения». Этот голос обретался в принципиально важном столкновении с прежней неорганизованной, «пассивной» или эгоистической жизнью человека, нацеленной на выработку об-щественно более ценного и многостороннего, менее эгоистично-го Я. Таким образом, включение в революционное движение могло быть обусловлено стремлением к самовыражению, а не желанием стереть собственную личность, как утверждают неко-торые комментаторы [503]. Хотя значительное число авторов дневников проявляли интерес к самосовершенствованию и са-мопреобразованию, идеологический язык их Я был весьма раз-личен. Тем не менее многие из их записей можно сгруппиро-вать по общим темам и конкретным моментам периода 1920—1930-х годов, когда стремление к самовыражению проявлялось наиболее отчетливо. Дневники первой группы велись «классово чуждыми элементами» и «классовыми врагами», главным обра-зом интеллигентского происхождения, которые хотели отрешить-ся от своей «буржуазной личности» в контексте борьбы комму-нистов за разрушение «старого мира», активно развернувшейся в конце 1920-х и начале 1930-х годов. Во второй группе днев-ников описывались процессы обучения, приобретения культуры и формирования личности. Принадлежавшие в основном моло-дым людям, происходившим из низших слоев общества, эти дневники стали появляться в начале 1930-х годов и велись на фоне формирующейся «социалистической цивилизации». Нако-нец, существовал дневник коммуниста, свидетельствующий о резком росте стремления к самопреобразованию в связи с кам-панией внутрипартийного очищения, кульминация которой при-шлась на годы «большой чистки». «Если вдуматься, сколько жизней течет вокруг — длинных и коротких, полных и скудных, ярких и бесцветных, счастливых и несчастных, — писала в своем дневнике в 1932 году молодая учительница Вера Павло-ва. — Сколько людей — творящих и разрушающих, строящих, борющихся в одиночку и коллективом, людей, так или иначе вкладывающих свои жизни в общее здание жизни общества, людей — песчинок истории, которых она незримо вписала в свои страницы». Павлова была поражена многообразием пози-ций окружавших ее людей, но еще поразительнее были поня-тия, в которых она осмысливала жизнь. Это были манихейские понятия созидания и разрушения, коллективизма и индивидуа-лизма, яркой выразительности и бесцветного существования, характерные для периода строительства социализма[504]. Пав-лова была убеждена, что все эти различные и даже противо-положные друг другу формы жизни разворачиваются историче-ски закономерно. Представление о том, что история в конечном счете задает нормы человеческой жизни, что эта жизнь тем выразительнее и исторически ценнее, чем в большей степени она служит потребностям общества, разделялось не только Павловой. Оно формировало самоопределение широкого круга людей в сталинские годы, в особенности в довоенный этап «социалистического строительства». Именно этой ориентацией на самовыражение в коллективе и на службе истории опреде-лялась социалистическая субъективность. Благодаря своей об-щественной силе и исторической значимости такая жизнь обе-щала людям подлинность и глубокую осмысленность, а потому они активно к ней стремились. Она противопоставлялась жизни вне коллектива или вне потока истории. Так же как авторы дневников жаждали жизни в коллективе, они боялись утраты смысла, которую влекло за собой изгнание из этого мира. Не-которые говорили о своей боязни стать «лишним человеком», ненужным обществу; другие сравнивали себя с беспомощными персонажами чеховских пьес, которые пассивно наблюдают за тем, как жизнь и история уходят за линию их личного горизон-та. Они боролись за то, чтобы не быть лишними в эпоху, когда и общественная ценность, и личная самооценка человека опре-делялись его «полезностью для общества». В ходе этой борь-бы авторы дневников описывали свои надежды на принадлеж-ность и страх исключения в биологических терминах. Они пред-ставляли коллектив живым организмом, включенность в жизне-деятельность которого давала человеку силу, смысл и энергию. В свою очередь, неспособность или нежелание идти в ногу с коллективом превращали авторов дневников в калек и парали-тиков, чувствующих себя отделенными от живого, энергичного, вечно молодого революционного тела. В ряде дневников повто-ряется образ радио как замены реальной связи с обществом, необходимого для одиноких людей, не имеющих возможности погрузиться в «общий поток жизни». Как передатчик празднич-ного шума советских демонстраций или вечерних новостей, в которых сообщалось об очередных подвигах советских людей, радио стало воплощением коллектива. Чем больше его переда-чи наполняли одиноких слушателей энтузиазмом, тем в боль-шей степени они описывали чувство принадлежности к совет-ской истории. Однако сама картина одинокого человека, спо-собного проникнуться ощущением связи с другими только бла-годаря потрескивающим звукам радиоприемника или фиксации своих мыслей в дневнике, заставляет задуматься об уединении и отчаянии — неафишируемой оборотной стороне ярко описы-вавшихся сценариев принадлежности. Социалистическую субъек-тивность правильнее всего понимать не как неизменную сущ-ность, которой человек был наделен раз и навсегда, а как со-стояние сознания, которое приобреталось в самом акте перехо-да Я от мелких и ограниченных забот на более высокий уро-вень вовлеченности в историю. Чтобы быть устойчивой, эта ус-тановка требовала постоянных усилий, связанных с нахождени-ем своего места в мире. Не все дневники того времени в рав-ной мере демонстрируют функционирование социалистической субъективности, и еще меньше таких дневников, которые бы позволяли увидеть полный набор ее определяющих признаков, однако можно утверждать, что самоопределение в советском мире обеспечивалось за счет тройственной установки на само-выражение, коллективное действие и историческую цель. Эта идеальная форма субъективности была отчетливо нелибераль-ной в том смысле, что в ней отсутствовала положительная оценка автономии и индивидуальных ценностей. Характерно, что не только коммунистические идеологи, но и критически мысля-щие советские интеллектуалы презирали «буржуазные» требо-вания индивидуального творчества и исключительности. Боль-шевистским активистам удалось распространить представление о необходимости личностного роста через верность делу рево-люции благодаря укорененности подобного образа мысли в ис-торическом прошлом России. Нравственная обязанность самосо-вершенствоваться, заниматься общественной деятельностью и выражать себя в соответствии с требованиями истории была основой русской интеллектуальной и политической жизни в те-чение почти столетия, предшествовавшего революции 1917 го-да. Стремясь включиться в историю и добиться исторически обоснованного представления о собственном Я, авторы дневни-ков сталинской эпохи на удивление последовательно продолжа-ли линию поведения нескольких поколений образованных рус-ских людей, начавшуюся с первых десятилетий XIX века и служившую отличительной особенностью русской интеллигенции. Первое поколение интеллигентов, немногочисленных образован-ных русских людей, собиралось в литературно- философских салонах Москвы и Санкт-Петербурга; их объединяло глубокое недовольство общественно- политической «отсталостью» России и ощущение нравственной обязанности изменить эту ситуацию. Инструмент быстрого и решительного изменения они нашли в немецком идеализме, в частности в гегелевской философии ис-торического развития, которую они изучали не как простой на-бор идей, а как руководство в личной, общественной и полити-ческой жизни. Учение Гегеля привило им веру в существование законов истории, применимых и к России и дававших надежду в условиях мрачной действительности. Хотя Россия отставала от более передового Запада, она могла догнать его благодаря напряженным усилиям «сознательных» личностей, знавших зако-ны истории и посвятивших свою жизнь применению этих зако-нов для блага страны. Привилегированное происхождение большинства этих молодых людей осознавалось ими как нрав-ственная обязанность превратить соотечественников, темных крестьян (а позднее рабочих), из существ, которые вели раб-ское существование, в полноценных людей, способных восстать против угнетения и помочь продвижению России вперед. Однако главным долгом интеллигента была работа над собой: форми-рование установки на общественно- политические изменения и сохранение представления о том, что свою жизнь он должен поставить на службу истории. Именно эту установку имели в виду интеллигенты, говоря об образцовой «личности», которую они определяли как надличностный этический идеал — ориен-тацию не на индивидуалистические цели, а на историю и кол-лектив ради строительства лучшего будущего. Такой подход, предъявлявший к интеллигентам серьезные требования, предос-тавлял им и значительные преимущества. Вера в историческую адекватность своих мыслей и действий наделяла их смыслом, тогда как в официальных структурах царской России, из кото-рых эти «лишние люди» были исключены в силу своего крити-ческого к ним отношения, они никакого смысла не видели. Ис-тория давала возможность спастись от невыносимого настояще-го на бескрайних просторах будущего и почувствовать себя там как дома. Некоторым из них будущее казалось очень много-обещающим. Наблюдая за Западом, диктовавшим темп истори-ческого развития, они предполагали, что усиленное культивиро-вание личности в России рано или поздно приведет к тому, что эта «молодая» страна перегонит «старый» Запад, отягощенный, по их мнению, вырожденческими, своекорыстными «буржуазны-ми» ценностями. Свои идеи об исторических изменениях интел-лигенция развивала в основном в сфере литературы. В усло-виях существовавшей при самодержавии политической цензуры качества «нового человека» очерчивались и обсуждались имен-но в, казалось бы, неполитической литературной сфере — в романах, критических статьях и литературных автобиографиях. По той же причине чтение этих произведений давало интелли-гентам зеркало, глядя в которое они могли преобразовывать себя. Жизнь и искусство были тесно взаимосвязаны: образцо-вая жизнь интеллигентов служила моделью для создания лите-ратурных образов, по примеру которых, в свою очередь, фор-мировали себя читатели. Эти вполне проницаемые границы, соединявшие, а не разделявшие жизнь и текст, сохранялись на протяжении большей части ХХ века и являлись отличительным признаком дневников сталинской эпохи [505]. Ленин и другие большевики жили в соответствии с ретранслируемым через ли-тературу требованием вести образцовое существование на службе истории. Они формировали свои установки в соответст-вии с новаторским толкованием понятия о новом человеке и, в свою очередь, пропагандировали образцы поведения, сообра-зующиеся с изменяющимися представлениями об исторически- необходимых действиях. Работу Ленина «Что делать?» (1902), посвященную новому типу политической партии профессиональ-ных революционеров, можно читать как руководство по воспита-нию личности. Жестко организованная партийная среда должна была формировать максимально преданных делу и стойких лю-дей, обладавших высочайшей сознательностью и железной во-лей, которые позволили бы им вовлечь отсталую Россию в во-доворот мировой революции. Придя к власти, большевики по-следовательно подавляли альтернативные сценарии историче-ских изменений, предлагавшиеся интеллигентами-небольшевиками. Параллельно и в самой партии шел процесс подавления «оппозиционных» голосов и навязывания «генераль-ной линии», во все большей степени отождествлявшейся с личной волей Сталина. Дух радикальной интеллигенции прояв-лялся в Коммунистической партии, но еще более широкое при-менение он находил в учреждениях и кампаниях советского го-сударства. С первых дней своего существования советская власть развернула широкомасштабные кампании по образова-нию и ликвидации неграмотности, оказавшиеся поразительно ус-пешными [506]. По мере советизации этос интеллигенции под-вергался преобразованию. Затрагивавший ранее лишь тонкий слой образованного общества России, он превращался теперь во всеобщий общественный идеал, распространявшийся через институциональные структуры советского государства. Становясь более узким в интерпретации и авторитарным по содержанию, этот идеал сохранял отчетливые очертания касавшегося теперь всех советских граждан требования вести идеологически цель-ную, «сознательную» жизнь, посвященную нуждам «общества» и в конечном счете нацеленную на обеспечение исторического прогресса. Каким запутанным путем идейные ориентации, воз-никшие в дореволюционное время, переносились в советскую действительность, видно из дневника Зинаиды Денисьевской, на протяжении всей жизни не отходившей от представления об обязанности интеллигенции просвещать массы. Но интеллигент-ские ценности определяли концепцию собственного Я и у рабо-чих крестьянского происхождения, выросших в 1920—1930-е го-ды. Леонид Потемкин пользовался дневником для упорядочения своих усилий, направленных на превращение в социалистиче-скую личность. Усилиям Степана Подлубного препятствовал груз утаиваемого прошлого, но его путь самовоспитания свидетель-ствовал об аналогичных устремлениях. Возникает вопрос, как соотнести эти повествования, наполненные напряженным само-анализом и стремлением вперед, с политическим давлением, психологическим и физическим, которое оказывала советская власть. Имея в виду требование коммунистического государства с энтузиазмом участвовать в «строительстве социализма», его решимость регулировать мысли граждан и преследование им малейших проявлений оппозиционного поведения, можно было бы заподозрить, что авторы дневников делали записи в первую очередь для НКВД и прилагали усилия к тому, чтобы предста-вить себя пылкими сторонниками советской власти, вопреки своим подлинным убеждениям. Зинаида Денисьевская вела дневник более тридцати лет; он охватил и революцию 1917 го-да, и сталинскую индустриальную революцию десятилетием позднее. На протяжении всего этого периода ее самопонимание развивалось без внезапных переломов или изменений тональ-ности; оно развертывалось последовательно, в соответствии с собственной логикой. Денисьевская нигде не сворачивала со своего пути, не переходила от искренности и самораскрытия к более расчетливой форме самопредставления, предназначенно-го для постороннего читателя. Другие дневники охватывают ме-нее длительные промежутки времени, но вести их авторы ста-ли до начала сталинских репрессий. Эти дневники тоже отли-чаются последовательностью тематики и стиля самовыражения. Александр Афиногенов стал анализировать свой творческий и личностный кризис еще в 1932 году, но лишь в 1937-м, под сильным давлением режима, он всерьез обратил внимание на собственное «разложение». Начав вести дневник, Леонид По-темкин посвятил его самовоспитанию, которым последовательно занимался в дальнейшем. Ведение дневника он прекратил в 1936 году, потому что дневник уже не помогал ему в самосо-вершенствовании. Вместо этого Леонид обратился к прямому обмену мнениями с ровесниками, в частности вступив в обшир-ную переписку с Ириной Жирковой. Случай Степана Подлубного сложнее в том смысле, что он сознательно вел двойную жизнь, изображая из себя рабочего, но зная при этом, что принадле-жит к другому классу. Однако его дневниковый голос последо-вателен: он критически комментирует свою двойную жизнь и ищет выход из нее, а не настроен на ее продолжение. Во всех четырех главах, посвященных отдельным авторам дневников, я, помимо самих этих дневников, опирался и на другие источники — личные письма, стихи, воспоминания, фотографии, опублико-ванные тексты и беседы. При их совокупном изучении возника-ет более сложное представление об индивидуальной субъектив-ности, чем то, которое могут дать сами дневники; но это пред-ставление не противоречит дневниковому нарративу и не обес-ценивает его. И из дневников, и из других источников становит-ся очевидной всепроникающая программа общественного кон-троля, управление собственным развитием и самосовершенст-вованием. В дневниках Подлубного, Денисьевской и Афиногено-ва много свидетельств личных сомнений и собственных мыслей о политике, причем особенно они заметны в моменты усиления политического давления. Вспомним Подлубного, называвшего свой дневник хранилищем «реакционных» мыслей, или попытки Афиногенова уйти от коммунистической жизни в частное суще-ствование, или сомнения Денисьевской в правильности гене-ральной линии партии. Если бы эти дневники были изъяты и просмотрены недоверчивым взглядом прокурора, их авторов, несомненно, обвинили бы в «разложении», «оппозиционных на-строениях» или «контрреволюционных намерениях». Наличие подобных записей безусловно отвергает подозрения в том, что дневники создавались в первую очередь для глаз и ушей со-трудников сталинского аппарата безопасности. Тем не менее кто-то может предположить, что даже эти выражения сомнений и отчаяния были нацелены на НКВД, чтобы создать впечатле-ние о борющихся со своими слабостями сторонниках социализ-ма, заслуживающих доверия именно потому, что они не скры-вают своих сомнений. Однако читать эти дневники страница за страницей, усматривая в них выражение расчетливой позиции, которую их авторы сохраняли долгие годы, было бы неспра-ведливым как по отношению к этим авторам, так и по отноше-нию к самим документам. Такое прочтение не может объяснить неисчислимого множества автобиографических документов ста-линской эпохи, которые показывают, что самоанализ и самовос-питание были в то время устоявшимися культурными практика-ми. Авторы с большим трудом доставали дефицитные бумагу и тетради, и это также свидетельствует о том, что им было очень важно сформулировать, проработать и разрешить насущ-ные вопросы относительно своих Я. В этом свете рассмотрен-ные мною дневники представляют собой нечто большее, чем просто тексты или своеобразные пассивные свидетельства. Они являются также материальными подтверждениями постоянных усилий, направленных на поиск и изменение авторами собст-венных Я, — усилий, которые поощрялись культурой, опреде-лявшей людей в терминах революционных субъектов. Дневнико-вые описания борьбы и личного становления указывают на сферу, внешнюю и по отношению к дневникам, и по отноше-нию к социальным позициям их авторов. Выражая свои уст-ремления, авторы дневников жаждали исторически действенным образом реализоваться за их пределами, в постоянной практи-ческой работе. Дневники, погруженные исключительно в сферу мысли, описывали в лучшем случае суррогатное историческое действие. Многие дневники, наполненные самоанализом, велись людьми, исключенными из коллектива и обращавшимися к дневникам в целях создания замены чувства утраченной при-надлежности. Дневниковые размышления могли продвигать про-ект переделки личности, но в основном этот проект осуществ-лялся не в дневниках, а в труде и активной общественной деятельности. Поэтому ориентированные на самоанализ дневни-ковые нарративы обращают наше внимание на значительно бо-лее общие процессы конструирования и реконструирования лич-ности, пронизывающие советский социальный, политический и экономический ландшафт [507]. Как и в отношении любого дру-гого исторического периода, мы достигаем глубокого понимания субъектов сталинской эпохи, лишь локализуя их в культурной среде, определявшей категории речи, мышления и действия, используемые при создании дневников. Если советские гражда-не настаивали на первостепенном значении самовоспитания, если они утверждали, что дневниковые лаборатории нужны им для личностной переделки, и обменивались письмами с друзья-ми в целях взаимного душевного контроля, у нас нет причин не верить им на слово, пусть даже мы считаем, что эта их про-грамма являлась результатом заблуждений и дезориентации. Императив изменения личности и идеал созвучного истории со-циализированного Я, которые играли для этих авторов опреде-ляющую роль, должны учитываться и при исторической оценке сталинского периода. Такое понимание вовсе не предполагает сочувствия или одобрения выбора, сделанного непосредствен-ными субъектами этой истории. Цель, наоборот, состоит в том, чтобы отделить самопонимание этих исторических субъектов от наших нынешних представлений о личности. Сочувствие же приводит к прямо противоположному результату: оно нарушает историческую дистанцию, проецируя на субъектов истории наши собственные ценности и представления о личности. Мы пере-делываем этих субъектов по своему образу и подобию, опре-деляемому либеральными идеалами индивидуализма и автоно-мии, и релятивизируем или игнорируем аспекты, этому образу не соответствующие. Судьба инженера Юлии Пятницкой, вы-толкнутой из советского общества после ареста ее мужа, вызы-вает сочувствие. Но такое сочувствие трудно совместить с осу-ждением ею в 1938 году Николая Бухарина как изменника и шпиона. Годом ранее муж Пятницкой защищал Бухарина от его противников в Коммунистической партии, и эта позиция, вероят-но, и послужила причиной его ареста. Прочитав признания в организации террористических актов, данные Бухариным на мо-сковском показательном процессе, Пятницкая пришла к обеску-раживающему нас сегодня выводу о том, что ее муж ошибал-ся, защищая скрытого контрреволюционера [508]. Равным обра-зом мы можем сочувствовать Зинаиде Денисьевской, особенно с учетом многочисленных бедствий, выпавших на ее долю в течение сравнительно недолгой жизни. Но в рамках «сочувст-венного» прочтения невозможно объяснить упорную поддержку Денисьевской каждого нового политического поворота как исто-рически неизбежного и желательного, даже обращаясь к контек-сту советской политики классовой войны, в конечном счете по-губившей ее. Психологическая драма Степана Подлубного с его стигмой сына «классового врага», безусловно, вызывает сочув-ствие. Но его замечания о голодающих украинских крестьянах («А те, кто помирает с голоду, пускай, раз он не может защи-тить себя от голодной смерти, значит слабовольный. Что же он может дать для общества?») значительно ослабляют эту сим-патию. То же самое можно сказать и о Леониде Потемкине, который преклонялся перед эстетикой строительства социализ-ма, но чье видение нового мира красоты и выразительности основывалось на сценариях ожесточенной борьбы, разложения и упадка, которые он понимал далеко не только метафорически. Эти модальности мысли сложны для восприятия современными читателями именно из-за принятия насилия в качестве инстру-мента самореализации. Сталинский режим прибегал по отноше-нию к своим гражданам к крайним формам насилия, но и их собственное самопонимание было проникнуто символическим на-силием. Ключевыми компонентами советской субъективности являлись борьба с внешними и внутренними врагами, а также уничтожение «старого человека» в целях создания «нового». Прометеевское прославление силы, здоровья и красоты сочета-лось с откровенным презрением к тем, кто считался слабым, больным и непригодным к жизни. Отдельных субъектов и аген-тов государства объединяли параллельные траектории револю-ционного очищения социального пространства и личного созна-ния, и те и другие рассматривали насилие как необходимый инструмент формирования общества и человеческой личности. При рассмотрении в диахронном аспекте, с учетом таких вех, как война, революция и сталинская индустриализация, эти дневники показывают, что для воплощения индивидуальных форм самопреобразования была необходима среда, пронизан-ная насилием. Ежедневные записи свидетельствуют о нарас-тавшей неотложности самоанализа, а пробелы и пропуски в фиксации событий указывают на то, что стимулов обратить взор внутрь себя становилось все меньше. Война со «старым миром», начатая коммунистическим режимом в конце 1920-х го-дов, подтолкнула к размышлениям людей, отождествлявших се-бя с «буржуазной интеллигенцией»; коммунистическая инквизи-ция 1930-х заставила заняться самоанализом большевиков, ока-завшихся на линии огня. Таким образом, авторы отдельных дневников превращали направленное против них насилие в ка-тализатор самоанализа. В процессе этого многие из них преоб-разовывали внешнее давление в рефлексию, административное принуждение во внутреннее стремление. Но, поступая так, они продолжали развивать взгляды на себя, существовавшие до непосредственных кампаний чисток. Размышляя о давлении, с которым они сталкивались, эти люди сохраняли в дневниках собственный авторский голос, и нет оснований считать плотную фактуру их записей простым примером конформизма, повторе-ния предписанных советской властью заклинаний [509]. Чтобы продвинуться в процессе самопреобразования, авторы дневни-ков стремились избавиться от ненужных или вредных мыслей. Называть это «самоцензурой» не совсем правильно. В этих случаях авторы дневников следовали не вполне осознаваемому зову своей души и тела, пытаясь создать условия для форми-рования у себя подлинного советского Я. Самовоспитание было преимущественно нравственным начинанием, направленным на самосовершенствование и экзистенциальное оправдание. Напро-тив, понятие «самоцензура» правомерно прилагать только к си-туациям индивидуального самоподавления, обусловленным бояз-нью авторов дневников, что их мысли или действия могут по-влечь за собой политические санкции. В дневниках сталинского периода проявляются оба аспекта — нравственное самовоспи-тание и политическая самоцензура, и часто они пересекаются и сливаются друг с другом, а авторы дневников не проводят различия между страхом внешних репрессий и страхом экзи-стенциальной утраты собственного Я. Особенно остро это слия-ние проявляется у тех авторов дневников, которые в периоды духовных кризисов обращались к НКВД, главному исполнителю сталинского политического насилия, как к высшему нравствен-ному авторитету, с просьбой вмешаться и исправить их оши-бочные побуждения[510]. Для многих авторов дневников сталин-ской эпохи история служила стимулом включения в политиче-ское настоящее, сколь бы репрессивным оно ни казалось. Знать направление истории и включиться в ее революционный поток было необходимым условием превращения в развитую личность и законного члена советского общества. Настоящее могло быть мрачным, но если оно открывало путь к будущему, то становилось пригодным для жизни и даже исключительно ценным. Никто не выразил эту связь между страданиями и спа-сением более отчетливо, чем Юлия Пятницкая, которая поте-ряла в результате сталинских чисток мужа и сына и все же не могла представить себе, что откажется от возможности служить сталинскому государству: «Твои самые близкие и дорогие люди уничтожены, ты измучена, ты видишь со всех сторон страдания и смерть, и все же ты продолжаешь идти, поднимаешься во весь рост, смотришь прямо в будущее общества — твоя жизнь будет ярче и богаче, и полезнее для других. Ты должна жить, действуя, а не созерцая, и если становится невозможно не ви-деть старой, темной жизни, то возвысься над ней, отделись от нее и выйди на светлый и радостный путь» [511]. Авторы дру-гих дневников также описывали острые противоречия между лично наблюдаемой ими действительностью и «революционной истиной», пропагандировавшейся властями, но подходили к раз-решению этих противоречий через напряженный исторический анализ. Они были склонны фиксировать достижения социали-стического строительства как исторические вехи, свидетельст-вующие о том, что история движется вперед верным курсом. Такое истолкование было в определенной мере оправданно: облик Советской России быстро менялся; миллионы людей из низших слоев общества получали образование; современные ценности — рациональность, дисциплина и наука, неустанно пропагандировавшиеся режимом, казалось, вытесняли извечные представления о российской косности и апатии. Ощущение, что страна движется к новым вершинам, получало дополнительное подтверждение при ее сравнении с капиталистическим Западом, испытывавшим экономическую депрессию и политический кризис. Подобное понимание истории действовало как сильный нарко-тик. Оно могло придать жизни личности опьяняющие смысл и динамику и таким образом ослабить боль, возникавшую в ре-зультате наблюдения действительности, сталкивавшейся с предписанной истиной. Хотя Александр Афиногенов и другие представители художественной интеллигенции иногда выражали сожаление по поводу накладываемых на них творческих ограни-чений, их роль инженеров нового мира вознаграждала их воз-можностью участия в истории, на фоне которой роль художника в несоциалистическом мире представлялась крайне незначи-тельной [512]. Представления о закономерном историческом развитии воодушевляли и тех, кто критиковал советскую власть и отказывался признавать ее исторические претензии. Посвя-щая себя альтернативному будущему, эти критики придержива-лись того же самого понятия личности, реализующей себя в революционном потоке истории [513]. Для того чтобы бороться с режимом на этом поле, требовалась не только большая сме-лость, но и способность концептуализировать самого себя в та-ких категориях, как «история», «революция» или «народ», — в категориях, которые режим стремился монополизировать. Судя по дневникам, о которых шла речь в этой книге, сталинскому режиму удалось заставить замолчать многих своих критиков не только с помощью репрессий или их угрозы, но и косвенно, за счет общественного остракизма и контроля над семантикой со-циалистической личности. Под сильным давлением режима, реализовывавшего ритуальные сценарии изгнания, наглядно от-лучавшие личность от коллектива, прежде чем выбросить ее на «свалку истории» (Троцкий), многие «лишние люди» превраща-лись в одиноких и сомневавшихся в себе, «никому не нужных» субъектов — ужасная судьба с учетом их стремления вести общественно полезную и исторически целеустремленную жизнь [514]. Желание слиться с движением, обещавшим людям все-объемлющее мировоззрение, уверенность, смысл и самореали-зацию, было характерно не только для Советского Союза. Оно являлось неотъемлемой составляющей европейской культурно-политической жизни в первой половине ХХ века, когда возни-кавшая массовая политика и технологическое экспериментиро-вание воинственно противопоставлялись традиционным буржуаз-ным ценностям. Интеллектуалы по всей Европе, в том числе Жорж Сорель, Эрнст Юнгер и Вальтер Беньямин, превозносили нравственно-искупительную и эстетически очистительную энер-гию политического насилия. В европейском искусстве межвоен-ного периода были обильно представлены эксперименты, осно-ванные на эстетическом насилии, — от формализма до футу-ристической поэзии и авангардного кинематографа. Новые — как левые, так и правые — политические партии конкурировали между собой за реализацию эстетизированных представлений об обществе, свободном от грязи и вырождения. Все активисты соответствующих течений, независимо от их происхождения и политической ориентации, разделяли общую решимость порвать с устарелым «академизмом» и «буржуазностью» и настаивали на том, что насилие является необходимым условием осущест-вления их проектов пересоздания мира. И все они провозгла-шали исключительную силу, красоту и нравственность организо-ванных масс, в противоположность «слабому» и «устарелому» «буржуазному индивидуализму» предшествующего периода [515]. Циничная практика и огромная разрушительная сила этих тече-ний с тех пор дискредитировали их в глазах многих, но образ целостного общественного организма, на который они опира-лись, сохраняет релевантность и по сей день. Этот образ при-влекателен для нас, современных людей, освободившихся от уз традиции и брошенных на волю волн нашей индивидуальной жизни. Хотя культура насилия была характерна в тот период для всей Европы, только в Советском Союзе развилась инкви-зиционная культура, стремившаяся выявить и разоблачить оск-верняющего Другого внутри революционного движения. Комму-нистическая идеология не предусматривала образа врага, имеющего постоянные — расовые или социально- статичные — характеристики, с которым надлежало бороться, чтобы достичь нравственного и эстетического совершенства. Принадлежность к создававшемуся коммунистическому миру определялась чисто-той сознания, а потому каждый человек становился одновре-менно субъектом и объектом очищения. Пластичность личности, утверждавшаяся коммунистической идеологией, могла представ-лять серьезную угрозу, но первоначально она была многообе-щающей и привлекательной. Исключительная обращенность к личности была уникальна для советского коммунистического го-сударства. Никакой другой режим массовой мобилизации, суще-ствовавший в ХХ веке, — ни в фашистской Италии, ни в наци-стской Германии — не призывал людей к такой масштабной переделке себя путем включения в революционное строитель-ство. И ни один из этих режимов не породил автобиографиче-ской литературы, сравнимой с советской по объему и глубине рефлексии. Субъективирующий импульс советской идеологии был отчасти связан с марксизмом и его романтическими кор-нями, но отчасти и с требованием общественной полезности, являвшимся ключевым для русской культуры задолго до рево-люции. Жить по-настоящему означало возвыситься над эгоисти-ческими интересами и посвятить жизнь служению обществу и истории, чтобы переделать ненавистную, отсталую Россию си-лой личного примера и неуклонной устремленностью в будущее. Эта установка действовала в разных, но всегда узнаваемых формах на протяжении всех лет советской власти, однако осо-бенно отчетливо она была выражена в сталинские времена. После смерти Сталина ее интенсивность пошла на спад. В 1936 году задумавшийся о будущем молодой московский рабо-чий-комсомолец Александр Ульянов разрешил проблему выбора между двумя девушками, провозгласив, что настоящим предме-том его любви является «дорогая» Коммунистическая партия. «Партия, вот она родная... Она близко, близко, и ежедневно ее чувствую, работаю для нее... Я нужен ей так же, как и она мне». В 1955 году, через два года после смерти Сталина, поэт Евгений Евтушенко затронул эту же тему, но с характерными изменениями. В стихотворении, обращенном к женщине, он на-писал: «у меня на свете две любимых — это революция и ты». Это была уже раздвоенная любовь, а не исключительная преданность обществу и истории. Более того, поэт просил обе-их возлюбленных простить ему периодические измены [516].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: