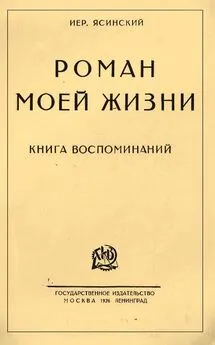Мстислав Цявловский - Книга воспоминаний о Пушкине
- Название:Книга воспоминаний о Пушкине
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Кооперативное издательство «Мир»
- Год:1931
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мстислав Цявловский - Книга воспоминаний о Пушкине краткое содержание
Книга воспоминаний о Пушкине - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Офицер этот был Григоров, который после пошёл в монахи и во время монашества познакомился со мною, приезжая из своей Оптиной пустыни в Москву для издания разных назидательных книг, что он очень любил [412]. Мне доставил он много примечательных автографов и несколько рукописей. Кажется, сам он рассказал мне описанный случай, если не кто другой, — но я его знал уже, когда Гоголь, воротясь из последнего неконченного своего путешествия в Малороссию, повторил мне этот рассказ, по поводу внезапной смерти Григорова, от которого незадолго он получил письмо и не застал его в живых по приезде в Оптину пустынь.
М. П.
15. М. Н. Лонгинов. «Пушкин в Одессе (1824)».
Автор заметки «Пушкин в Одессе» («Библиографические записки», 1859, т. II, № 18, стб. 553—555) — известный историк литературы и библиограф Мих. Ник. Лонгинов (1823—1875), который может быть причислен к числу первых по времени пушкинистов. Воспитанник Царскосельского лицея. Лонгинов в своих занятиях немало уделял внимания Пушкину. Записанные им рассказы помимо фактов, известных и из других источников, как командировка на саранчу, заключают в себе и неизвестные подробности, как заём денег Пушкиным у Лонгинова.
Родной мой дядя Никанор Михайлович Лонгинов служил в Одессе при графе (впоследствии князе) М. С. Воронцове [413]— в то время, когда Пушкин тоже находился там на службе [414]. Сообщаю здесь кое-что из его рассказов.
Пушкин носил тяжёлую железную палку. Дядя спросил у него однажды: «для чего это, Александр Сергеевич, носишь ты такую тяжёлую дубину?». Пушкин отвечал: «Для того, чтоб рука была твёрже; если придётся стреляться, чтоб не дрогнула».
По некоторым соображениям главный начальник командировал Пушкина собрать сведения о саранче. Пушкин сначала обиделся или поленился, и просто хотел отказаться от поездки, но его уговорили не делать напрасного скандала, и он отправился.
Поездка его была непродолжительна, он возвратился чуть ли не через неделю и явился к графу Воронцову в его кабинет. Разговор был самый лаконический; Пушкин отвечал на вопросы графа только повторением последних слов его; например: «Ты сам саранчу видел?» — Видел. — «Что ж её много»? — «Много» и т. п.
Кажется, после этого Пушкин не желал оставаться больше при графе. Но перевести его куда-нибудь, уволить в отпуск или в отставку было невозможно без особых распоряжений из Петербурга, потому что Пушкин находился в Одессе по высочайшему повелению. Представление о Пушкине было отправлено в Петербург.
Разрешение не замедлилось получением. В нём заключалось приказание: Пушкину отправиться в деревню своих родителей под их надзор и ответственность и ехать туда прямо, никуда не заезжая и нигде не останавливаясь, в чём и взять с него подписку, а если он её не захочет дать, то отправить его с курьером. Пушкин, разумеется, дал подписку, собрался в дорогу скоро и сдержал данное слово [415].
Между тем финансы поэта были очень расстроены, а выехать без денег трудно. Некоторые приятели одолжили ему в займы, кто сколько мог. В числе их и дядя мой дал ему 50 или 100 рублей ассигнациями. Пушкин уехал к общему огорчению одесской молодёжи и особенно дам.
Через несколько времени дядя получил от него прелюбезное письмо, в котором Пушкин просил между прочим сообщить: сколько именно он ему должен? Он забыл в дорожных хлопотах настоящую сумму. Дядя отвечал ему на предложенный вопрос. Вскоре получил он второе письмо, в котором Пушкин благодарил его за одолжение; деньги были приложены к письму.
Письма эти не сохранились у дяди: одесские дамы тотчас выпросили их у него и разделили между собою по клочкам; всякой хотелось иметь хоть строку, написанную рукой поэта.
О командировке Пушкина см. в Библ. Зап. 1858 г., № 5, столб. 139, статью г. Зеленецкого. Из ней видно, что предписание Пушкину было дано 22 мая 1824 г., а Одессу он окончательно оставил 30 июля того же года.
М. Лонгинов.
16. С. А. Соболевский. «Квартира Пушкина в Москве».
По совершенно случайному поводу приятель Пушкина Сергей Александрович Соболевский (1803—1870) в виде письма к М. П. Погодину дал интересный отрывок из своих воспоминаний о поэте. Погодин, публикуя это письмо в своей газете («Русский», 1867, лист 7 и 8 от 3 апреля, стр. 111—112) сделал с своей стороны не менее интересные добавления.
… Заезжайте в кабак!! — Я вчера там был, но ни вина ни мёда не пил. Вот в чём дело.
Мы ехали с Лонгиновым через Собачью площадку; сравнявшись с углом её — я показал товарищу дом Ренкевича (ныне Левенталя), в котором жил я, а у меня Пушкин [416]. Сравнялись с прорубленною мною дверью на переулок — видим на ней вывеску: продажа вина и проч . — Sic transit gloria mundi!!! [417]Стой, кучер! Вылезли из возка, и пошли туда. Дом совершенно не изменился в расположении: вот моя спальня, мой кабинет, та общая гостиная, в которую мы сходились из своих половин, и где заседал Алексадр Сергеевич в самоедском ергаке. Вот где стояла кровать его; вот где так нежно возился и няньчился он с маленькими датскими щенятами. Вот где он выронил (к счастию — что не в кабинете императора) своё стихотворение на 14 декабря, что с час времени так его беспокоило, пока оно не нашлось!!! [418]Вот где собирались Веневитинов [419], Киреевский [420], Шевырёв [421], Рожалин [422], Мицкевич, Баратынский, вы, я …и другие мужи, вот где болталось, смеялось, вралось и говорилось умно!!!
Кабатчик, принявший нас с почтением (должным таким посетителям, которые вылезли из экипажа) — очень был удивлён нашему хождению по комнатам заведения. На вопрос мой: слыхал ли он о Пушкине? он сказал утвердительно, но что-то заикаясь.
В другой стране, у бусурманов, и на дверях сделали бы надпись: здесь жил Пушкин! — и в углу бы написали: здесь спал Пушкин! — и так далее.
С. С.
Помню, помню живо этот знаменитый уголок, где жил Пушкин в 1826 и 1827 году, помню его письменный стол, между двумя окнами, над которым висел портрет Жуковского, с надписью: ученику победителю от побеждённого учителя [423]. Помню диван в другой комнате, где, за вкусным завтраком (хозяин был мастер этого дела), начал он читать мою Русую косу, первую повесть, написанную и помещённую в Северных цветах 24 года [424], и дойдя до места, в начале, где один молодой человек выдумал новость другому, любителю словесности, чтоб вызвать его из задумчивости: «Жуковский перевёл байронову Мазепу», воскликнул с восторгом: «Как! Жуковский перевёл Мазепу!» Там переписал я ему его Мазепу [425], поэму, которая после получила имя Полтавы. Там, при мне, получил он письмо от ген. Бенкендорфа [426]с разрешением напечатать некоторые стихотворения и отложить другие. В этом письме упоминались песни о Стеньке Разине. Пушкин отдал его мне, и оно у меня цело [427]. Туда привёз я ему с почты Бориса Годунова [428]. Однажды пришли мы к нему рано с Шевырёвым за стихотворением для Московского Вестника [429], чтоб застать его дома, а он ещё не возвращался с прогульной ночи, — и приехал при нас. Помню, как нам было неловко, в каком странном положении мы очутились из области поэзии в области прозы. Всё это и многое другое надо бы мне было записать, но где же взять времени? Меня ждёт ещё Гоголь, ждёт Иннокентий [430], ждет Шевырев; надо ещё описать нашествие на Московский университет двадесяти язык… [431]и мало ли что, кроме Истории, которой впрочем уже напечатано около сорока листов [432].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
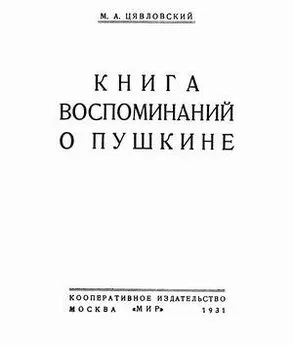






![Эльке Хайденрайх - Все не случайно [Книга воспоминаний]](/books/1078408/elke-hajdenrajh-vse-ne-sluchajno-kniga-vospominan.webp)