Дмитрий Быков - Иностранная литература: тайны и демоны
- Название:Иностранная литература: тайны и демоны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ (БЕЗ ПОДПИСКИ)
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-121796-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Быков - Иностранная литература: тайны и демоны краткое содержание
В Лектории «Прямая речь» каждый день выступают выдающиеся ученые, писатели, актеры и популяризаторы науки. Их оценки и мнения часто не совпадают с устоявшейся точкой зрения – идеи, мысли и открытия рождаются прямо на глазах слушателей.
Вот уже десять лет визитная карточка «Прямой речи» – лекции Дмитрия Быкова по литературе. Быков приучает обращаться к знакомым текстам за советом и утешением, искать и находить в них ответы на вызовы нового дня. Его лекции – всегда события. Теперь они есть и в формате книги.
«Иностранная литература: тайны и демоны» – третья книга лекций Дмитрия Быкова. Уильям Шекспир, Чарльз Диккенс, Оскар Уайльд, Редьярд Киплинг, Артур Конан Дойл, Ги де Мопассан, Эрих Мария Ремарк, Агата Кристи, Джоан Роулинг, Стивен Кинг…
Иностранная литература: тайны и демоны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А это полковник Карджилл Хеллер, один в один:
– Господа! – начал он, обращаясь к офицерам и старательно выдерживая паузы между словами. – Вы – американские офицеры. Ни в одной другой армии мира офицеры не могут сказать о себе ничего подобного. <���…> Эти люди – ваши гости! – вдруг закричал он. – Они проехали более трех тысяч миль для того, чтобы развлечь вас. Каково же им, если никто не желает идти на их концерт? <���…> А как бы вам понравилось, если бы ваша мама проехала больше трех тысяч миль, чтобы поиграть на аккордеоне каким-то военным, а те даже взглянуть на нее не пожелали? [85] Перевод М. Виленского и В. Титова.
Есть четвертый вид произведений о войне, где война рассматривается как экстремальная ситуация, как арена для экзистенциального выбора, и Василь Владимирович Быков – наиболее, пожалуй, авторитетный из таких авторов. В каком-то смысле можно здесь назвать и Хемингуэя, но у Хемингуэя упоение мужчинством иногда бывает сильнее, хотя, как доказал Максим Чертанов, Хемингуэй был ранен менее тяжело, воевал менее долго и на личном опыте знал о войне гораздо меньше, чем, пыжась, доказывал в своих книгах [86] См. самую полную на сегодняшний день биографию писателя: Чертанов М. Хемингуэй. М.: Молодая гвардия, 2010. (ЖЗЛ).
. Но тем не менее Хэм – это Хэм, это экзистенциальная ситуация на войне. Активнее всего эту тему разрабатывает, конечно, Быков, отчасти Норман Мейлер в «Нагих и мертвых» (1948), конечно, Ирвин Шоу в «Молодых львах» (1948). Из великой мировой литературы, действительно великой, можно назвать рассказ Сэлинджера «Посвящается Эсме – с любовью и мерзостью» («Дорогой Эсме – с любовью и всякой мерзостью» в переводе С. Митиной, 1950), рассказ, в котором и войны, собственно, никакой нет, а есть обнаженная войной душа. Невероятной силы рассказ, выше всяких там «Ловцов во ржи» [87] «Над пропастью во ржи» в переводе Риты Райт-Ковалевой.
.
И вот после этих четырех видов военной прозы Ремарк написал пятую, благодаря чему и вошел в историю как величайший военный писатель. Ремарк показывает войну как перелом от старого мира к новому, как ситуацию, в которой человек больше не нужен. Это Европа, которая осознала, что век личности кончился и начался век масс.
В статье про Ремарка, заказанной мне журналом «Дилетант» к столетию Первой мировой войны, я проводил странную, на первый взгляд, мысль, но чем дальше, тем больше убеждаюсь, что она верна. Ремарка, Селина, Хемингуэя и других – всю молодежь, побывавшую на Первой мировой, – называли потерянным поколением, хотя с какой стати, не очень понятно. Больше того, они из своего военного опыта соорудили себе пьедестал и извинения на все случаи жизни. А чего он пьет? – Он пережил войну. А чего он бьет жену? – Он пережил войну. Почему он не хочет работать? – Потому что ему после войны все представляется бессмысленным. И так далее. Но помимо этого стартового капитала, война дала им очень странное понимание себя. Они потерянные в том смысле, в каком Пастернак говорил: «Я человека потерял / С тех пор, как всеми он потерян» [88] См. стихотворение Бориса Пастернака «Перемена» (1956).
. Они поколение потерянных личностей, потому что личность больше не нужна. Это самое страшное. Как поется в гениальной песенке Жоржа Брассанса «Война 1914–1918 годов» в гениальном же переводе Марка Фрейдкина:
От войн таких в душе светлее,
их не пошлешь так просто на…
Но лично мне всего милее
та незабвенная война!
А почему? Да потому, что эта война, единственная из всех сколько-нибудь значимых войн в истории человечества, обозначила конец одной его истории и начало другой. Кончилась история просвещения, потому что просвещение никого не остановило. Кончилась история атеизма, потому что атеизм никого не спас. Кончилась история религии, потому что и Бог никого не спас. Кончилась история личности и началась история масс. Вот это самое страшное.
Название романа «На Западном фронте без перемен» – название издевательское, потому что это история о том, как на Западе все поменялось. Как Запад стал другим. Как из человеческой единицы, главной единицы общества, личность стала отбросом, пылью, пылью и осталась. Она была потом лагерной пылью. Она была потом фронтовой пылью. Она осталась пылью и до сих пор. Человеческая личность закончилась в 1914 году. Закончились ее драмы, ее проблемы, ее завоевания, ее моральные выборы, которые вообще снялись. «Я освобождаю вас от химеры, именуемой совестью» – было сказано впоследствии. И мы всё еще не можем осознать, что трагедия XX века, начавшись в июле – августе 1914 года, трагедия случайная, трагедия, ничем, казалось бы, не предопределенная, – это трагедия окончательная. Потому что из 1914-го вытекает 1941-й, а драма 1941 года до сих пор не преодолена. Человечество до сих пор пытается жить так, как будто существуют какие-то права личности, тогда как этих прав личности больше не существует.
Ремарк уловил процесс. Уловил момент, когда исчезает герой. Пауль Боймер погиб в финале книги, погиб в один из дней, когда сводка сообщила, что на Западном фронте без перемен. Он погиб, а ничего не изменилось. Гибель перестала быть фактом, а стала статистикой.
Александр Семенович Кушнер, известный своим даже несколько избыточным, на мой взгляд, оптимизмом, во время одной из недавних встреч мне сказал: «Все чаще я боюсь, что человечество не выдержало испытания XX веком, и Бог отвернулся от несостоявшегося проекта. Я сорок лет думал, что можно жить после Второй мировой войны, но чем больше я читаю свидетельств, тем больше я понимаю: нет, после этого жить нельзя».
У каждого порог свой. Кто-то отказывается от человека, прочитав «У нас в Аушвице» и «Прощание с Марией» Тадеуша Боровского (для меня когда-то это было, как обжечься на всю жизнь), кто-то – прочитав Варлама Шаламова, а для кого-то это книга Павла Поляна [89] Павел Маркович Полян известен читателю как литературовед, исследователь творчества Мандельштама; его многочисленные литературоведческие труды опубликованы под псевдонимом Павел Нерлер.
«Свитки из пепла» – уцелевшие записки евреев, состоявших в «зондеркомандах». После этого мировой литературы просто нет. Для кого-то человек кончается на документальной книге Янки Брыля, Алеся Адамовича и Владимира Колесника «Я из огненной деревни…», для кого-то – на фильме Элема Климова «Иди и смотри». Для Кушнера, по его признанию, это кончилось тогда, когда он прочитал воспоминания о том, как в 1942 году немцы заживо замуровали в заброшенной штольне под Артемовском (это Донбасс) более трех тысяч евреев. «Поэтому я не понимаю, – говорит Кушнер, – как после этого можно жить в Артемовске».
Так вот, началось это с Ремарка. Ремарк очень просто сказал, что человеческая история кончилась, началась история чего-то другого. А вот что это другое? На это он дает ответ в следующих своих сочинениях, но именно с «Западного фронта…» у Ремарка красной нитью проходит единственная любимая его мысль: так дальше жить нельзя. И основной конфликт его не между добром и злом, не между прошлым и будущим даже – конфликт между теми, кто это уже понял, и теми, кто этого еще не осознал. Об этом весь «Черный обелиск» (1956), который не случайно весь роман-могила, роман-кладбище, роман – похороны старой Европы. Но об этом уже было в «На Западном фронте…», об этом же «Возвращение» (1931), которое его продолжает и развивает. Об этом же, собственно, и «Три товарища» (1936): когда человек это понял, он жить не может, его притягивает смерть, и если он в кого-то и может влюбиться, то только в умирающую. Роберт Локамп и Готфрид Ленц во главе с Отто Кёстером потому и механики, что с машиной еще можно иметь дело, а с человеком – уже нельзя, человек уже ничего не может. Символ человека – это Кики, который не может жить с женой, поэтому становится педерастом, выбирая свой единственный способ сексуального взаимодействия с людьми. Если внимательно вчитаться в роман Ремарка «На Западном фронте…», там уже есть мысль о том, что мы больше не люди, что человеческие правила для нас уже не работают. Но страшнее всего об этом сказано в романе «Искра жизни» (1952), который написан, и Ремарк принципиально подчеркивает это, не на личном опыте. После казни сестры в нацистской Германии он считал своим долгом написать роман о концлагерях. Не случайно главный герой имеет уже не имя, а номер – 509, а роман кончается диалогом, который я назвал бы главным диалогом в мировой литературе XX века. Главный диалог в философии XX века – это полемика между Иваном Ильиным и Николаем Бердяевым по вопросу о противлении злу. А главный диалог в литературе XX века – это разговор двух выживших в финале романа «Искра жизни», когда их освободили из концлагеря: «Словно мы последние люди на земле. – Почему последние? Первые» [90] Перевод М. Рудницкого.
.
Интервал:
Закладка:

![Тед Хьюз - Новые стихи [Иностранная литература]](/books/371989/ted-hyuz-novye-stihi-inostrannaya-literatura.webp)

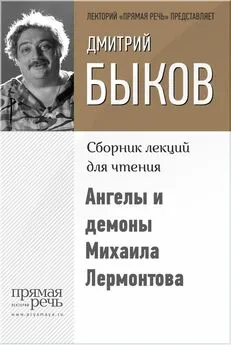
![Чарльз Буковски - Рассказы журнала [Иностранная литература]](/books/587604/charlz-bukovski-rasskazy-zhurnala-inostrannaya-lite.webp)

![Дмитрий Быков - Советская литература: мифы и соблазны [litres]](/books/1068513/dmitrij-bykov-sovetskaya-literatura-mify-i-soblazn.webp)



