Дмитрий Быков - Иностранная литература: тайны и демоны
- Название:Иностранная литература: тайны и демоны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ (БЕЗ ПОДПИСКИ)
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-121796-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Быков - Иностранная литература: тайны и демоны краткое содержание
В Лектории «Прямая речь» каждый день выступают выдающиеся ученые, писатели, актеры и популяризаторы науки. Их оценки и мнения часто не совпадают с устоявшейся точкой зрения – идеи, мысли и открытия рождаются прямо на глазах слушателей.
Вот уже десять лет визитная карточка «Прямой речи» – лекции Дмитрия Быкова по литературе. Быков приучает обращаться к знакомым текстам за советом и утешением, искать и находить в них ответы на вызовы нового дня. Его лекции – всегда события. Теперь они есть и в формате книги.
«Иностранная литература: тайны и демоны» – третья книга лекций Дмитрия Быкова. Уильям Шекспир, Чарльз Диккенс, Оскар Уайльд, Редьярд Киплинг, Артур Конан Дойл, Ги де Мопассан, Эрих Мария Ремарк, Агата Кристи, Джоан Роулинг, Стивен Кинг…
Иностранная литература: тайны и демоны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Когда одна я, совсем одна,
И вечер свеж после жарких дней,
И так высоко светит луна,
Что земля темна и при ней,
И холодный ветер пахнет травой,
И веки смыкаются в полусне, —
Тогда является мне на стене
Река
И челн теневой.
А в том челне старина Гек Финн
Стоит вполуоборот;
И садится он,
И ложится в челнок,
И плывет, закурив, плывет…
В лучах пароходов и городов,
Один-одинешенек-одинок,
Становится точкой его челнок,
Но не так, чтоб исчезнуть совсем,
Но не так, чтоб исчезнуть совсем.
И всё ему на реке слышны
Остроты встречных плотовщиков…
Спросите: а чем они так смешны?
И смысл у них каков?
А просто – смех на реке живет,
А просто – весело ночью плыть
Вдоль глухих берегов,
По реке рабов,
Но в свободный штат, может быть!
Вот это замечательное путешествие в свободный штат и стало главным символом всей американской прозы. Поэтому Том и Гек, памятник которым стоит в городе Ганнибале, штат Миссури, на родине Марка Твена, – два главных, два самых симпатичных героя американской литературы. Твен пытался написать про них продолжение – «Том Сойер за границей» и «Том Сойер – сыщик», но они получились довольно бледными. А незадолго до смерти Твен мечтал написать роман о том, как старые Том и Гек встречаются на берегах Миссисипи, вспоминают свою жизнь и понимают, что ничего из них не получилось, а самое лучшее, самое яркое, что в их жизни было, – это путешествие по реке. Слава богу, что Твен эту книгу не написал. Потому что, как бы ни кончалась любая жизнь, важно не то, чем она кончается, а то, сколько удовольствия она приносит.
Стивен Кинг
Почему-то Стивен Кинг стал в России писателем, не скажу более популярным, чем в Штатах, но более культовым. Только в России есть такое понятие, как культовый. Да и сам по себе феномен культовости возможен только в России и нуждается в дополнительном объяснении.
Культовый – это слишком хороший, чтобы быть массовым в самом прямом значении слова. Столь важный, что мы прощаем ему большинство недостатков, поскольку большинство культовых фигур в России – это непрофессионалы ни в чем. И, наконец, культовый – это парольный. Это фигура, благодаря которой читатель, зритель, слушатель опознает духовно близких людей.
Скажу больше: культовый в российском понимании, где вообще среда – ключевая вещь (Россия плохо производит товары, но гениально формирует среды), – это тот, который дарит потребителю положительную самоидентификацию. То есть фильмы Тарковского мы смотрим чаще всего не для удовольствия, а для того, чтобы понять, как мы умны. В этом смысле, скажем, культовым режиссером в России был Микеланджело Антониони, гораздо более культовым, чем в Италии, тем более что у нас посмотреть его было сложнее, а в Италии он был более-менее общедоступен.
Культовый – это Стивен Кинг, разумеется. И вот о причинах культовости Кинга в России следовало бы поговорить. Когда в 1985 году после выхода у нас «Мертвой зоны» в научном сборнике Института США и Канады появилась сорокастраничная статья Андрея Шемякина, тогда еще не киноведа, а американиста, и Кингу отослали ксерокс этой статьи, Кинг, который привык, что его сравнивают чаще всего с писателями третьего ряда, в крайнем случае с Говардом Лавкрафтом, пришел в такой восторг, что прислал Шемякину книгу с автографом «To my best reader». Что вполне объяснимо, потому что Шемякин поставил его в серьезнейший контекст. Это потом уже Фрэнк Дарабонт, режиссер, который известен именно кинговскими экранизациями, сказал: «Ну, Стивен у нас наш Диккенс». А тогда Кинг писал: «Для меня эталонный писатель – это Драйзер». Я думаю, он бы сильно изумился, если бы узнал, что в России Драйзер проходит по скучному разряду социального реализма, а вот он считается по-настоящему крупным писателем. И Кинг как раз в статье Шемякина представал носителем традиционных гуманистических начал. Может быть, единственным представителем гуманистической литературы.
Само по себе творчество Степки нашего Королева, как мы его всегда ласково называли, – те, кто за его счет жил, кормился, переводил, кто, приезжая в Америку, первым делом в первом же киоске покупал новый бестселлер Кинга, – не дает простора для таких оригинальных интерпретаций; в текстах Кинга довольно быстро ложка начинает скрести по дну. При всех его бесспорных достоинствах это писатель не слишком сложный. Может быть, именно поэтому он столь культов. Кстати, в Штатах мое пристрастие к Кингу разделяли в основном дети моих американских друзей – стоило мне прийти в гости и сказать, что в 1994 году я жал руку живому Кингу в издательстве Viking Press, я для этих детей тоже становился абсолютно культовым персонажем. Родители не понимали, в чем дело. Для них это был однозначный и бесспорный треш, мусор, который продается в аэропорту, и для детей он хорош только тем, что дает понять, что надо вести себя по-человечески и мыть руки перед едой. Точно такое же отношение, как мы помним, было к Агате Кристи, которая в СССР была абсолютно культовой фигурой, а в Англии о ней писали, что по ее романам хорошо изучать английский язык, не более того.
Так вот, причины культовости Кинга лучше всего объяснены в единственной русской книге о нем, которую написал мой ближайший друг Вадим Эрлихман [98] См.: Эрлихман В. Король темной стороны: Стивен Кинг в Америке и России. М.: Амфора, 2006.
; более того, я и подбил его эту книгу написать, потому что именно через Эрлихмана Кинг начал приходить в Россию. В своей книге Эрлихман рассказывает об издательстве «Кэдмэн», которое начало Кинга пиратски переводить, и безработный выпускник историко-архивного института, вдобавок воронежского происхождения, переводил для них Кинга, и переводил с книг, которые были либо отксерены, либо привезены туристами и половины страниц у них недоставало, так что иногда Эрлихману приходилось вписывать за Кинга; до сих пор эти переводы в таком виде и переиздаются, и как-то даже швов не видно. Больше того, Эрлихману самому приходилось реализовывать эти книги и ходить по электричкам с криком «Кинга знают все вокруг – Стивен наш ужасный друг!» – и это всегда срабатывало. Больше того, ему приходилось регулярно бывать на складе кэдмэновских книг, где ему их выдавали для реализации, и самое страшное было пройти в сортир через огромный, темный, сочащийся капающей откуда-то водой абсолютно кинговский зал, и около сортира его обязательно кусало что-то пищащее и страшно похожее на томминокера. Представить, что это крыса, Эрлихман, разумеется, не мог.
Вот именно благодаря этим нежнейшим и трогательнейшим мемуарам его книга о Кинге становится таким прелестным сочинением. Книга действительно мистической судьбы: в 2006 году, когда Эрлихман сдал ее в издательство «Амфора», книга вышла, причем двумя изданиями, а получил он за нее деньги, которые были эквивалентны ровно двум его поездкам в Петербург для подписания договора. Книга после этого успешно продавалась, но Эрлихману не приносила ни гроша. И только будучи переиздана в серии ВИП («Великие исторические персоны») издательства «Вече», она заслуженно стала бестселлером.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

![Тед Хьюз - Новые стихи [Иностранная литература]](/books/371989/ted-hyuz-novye-stihi-inostrannaya-literatura.webp)

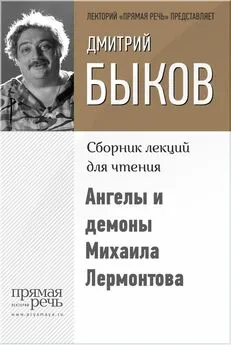
![Чарльз Буковски - Рассказы журнала [Иностранная литература]](/books/587604/charlz-bukovski-rasskazy-zhurnala-inostrannaya-lite.webp)

![Дмитрий Быков - Советская литература: мифы и соблазны [litres]](/books/1068513/dmitrij-bykov-sovetskaya-literatura-mify-i-soblazn.webp)



