Дмитрий Быков - Иностранная литература: тайны и демоны
- Название:Иностранная литература: тайны и демоны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ (БЕЗ ПОДПИСКИ)
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-121796-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Быков - Иностранная литература: тайны и демоны краткое содержание
В Лектории «Прямая речь» каждый день выступают выдающиеся ученые, писатели, актеры и популяризаторы науки. Их оценки и мнения часто не совпадают с устоявшейся точкой зрения – идеи, мысли и открытия рождаются прямо на глазах слушателей.
Вот уже десять лет визитная карточка «Прямой речи» – лекции Дмитрия Быкова по литературе. Быков приучает обращаться к знакомым текстам за советом и утешением, искать и находить в них ответы на вызовы нового дня. Его лекции – всегда события. Теперь они есть и в формате книги.
«Иностранная литература: тайны и демоны» – третья книга лекций Дмитрия Быкова. Уильям Шекспир, Чарльз Диккенс, Оскар Уайльд, Редьярд Киплинг, Артур Конан Дойл, Ги де Мопассан, Эрих Мария Ремарк, Агата Кристи, Джоан Роулинг, Стивен Кинг…
Иностранная литература: тайны и демоны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но сначала поговорим о самом жанре социальной сказки. В мировой культуре – послевоенной, отчасти довоенной, в 1920–1930-е годы – тема борьбы угнетенных с угнетателями вышла на первый план, и надо бы нового Владимира Яковлевича Проппа, который написал бы морфологию социальной сказки. Этих социальных сказок можно перечислить довольно много. Беда в том, что значительная их часть, и притом лучшая их часть, в силу разных причин не увидела вовремя свет. Роман-сказка Веры Пановой «Который час?», придуманный в оккупации (Панова его дочке рассказывала) и написанный в 1942 году, дожидался публикации сорок лет, свет увидел в 1981 году, уже после смерти Пановой. Она готовила его для собрания сочинений, роман прошел все инстанции – и в последний момент его сняли. Хотя в этом романе, безусловно, лучшем произведении Пановой, в замечательном сказочном романе дотошной реалистки ничего антисоветского нет, разве что когда сумасшедший Гун, захвативший власть в городе, кричит с трибуны «Эники-беники!», а вся толпа на площади ревет в ответ: «Е-е-е-е-ели! Варе-е-е-е-еники! Е-е-е-е-ели! Варе-е-е-е-еники! Е-е-е-е-ели! Варе-е-е-е-еники! Е-е-е-е-ели! Варе-е-е-е-еники! Е-е-е-е-ели! Варе-е-е-е-еники!!» – тут можно было увидеть некоторый намек на тотальность советской пропаганды.
Другая такая сказка – «Три толстяка», вероятно, самая популярная в XX веке, причем во всем мире, и уж конечно, Джанни Родари ее знает, и уж конечно, обширно ее цитирует (книга Родари вообще очень культурологична, в ней есть отсылки практически ко всем мировым шедеврам на тему борьбы с угнетателями). Что Джанни Родари читал «Трех толстяков» Юрия Олеши (1924), совершенно очевидно. «Три толстяка» показывают лишний раз, что в стандартной схеме – город восстает против угнетателей – каждый работает, как умеет, и каждый добавляет к ней собственное умение. Олеша добавил собственную барочность, исхищенную им из южной школы, из одесской юго-западной литературной традиции. Все очень избыточно, очень культурно, очень готично; скажем, страшные заключенные в тюрьме, обросшие шерстью и похожие на животных, надолго запоминаются всякому ребенку, особенно тому, кто смотрел авангардный диафильм «Три толстяка» 1966 года (художник Климент Михайлович Сапегин), который долгое время был основой моих детских кошмаров.
Не менее знаменитой была советская пьеса-сказка «Город мастеров, или Сказка о двух горбунах» (1943), великолепная работа Тамары Габбе, в которой тоже есть готические заимствования: есть обязательный веселый горбун – метельщик Караколь, есть страшный горбун – герцог де Маликорн, есть приветы практически всей литературе в диапазоне от Шарля де Костера до Виктора Гюго. И есть главный мотив – мотив трудового народа, который свергает ненавистного тирана.
Есть еще одна сказка, знаменитая сейчас во всем мире, а особенно в Европе, поставленная там бесчисленное количество раз. И она тоже поздно увидела свет. Но когда Джанни Родари писал про Чиполлино, он понятия не имел об этой сказке, поскольку «Чиполлино» написан в 1951 году, а «Дракон» Евгения Шварца существовал в ничтожном количестве гектографированных экземпляров 1943 года, спектакль же Николая Павловича Акимова прошел ровно один раз. «Дракон» был легендарной пьесой, но до 1958 года, года смерти Шварца, оставался под спудом.
Жанр детской сказки о борьбе с угнетателями, или, скажем так, социальной сказки, марксистской сказки, имеет несколько важных особенностей.
Культурологическая особенность заключается в том, что такая сказка опирается на огромный европейский бэкграунд, и прежде всего на два его главных культовых текста – «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле и «Легенду об Уленшпигеле» Шарля де Костера. В «Уленшпигеле» есть всё. Все координаты европейского модерна заданы уже там. Не «Улисс» Джойса, а именно «Уленшпигель» задал все нарративные техники, включая поток сознания. Но удивительное самое, что «Уленшпигель» ведь по большому счету – это книга средневековая, книга, которую де Костер каким-то невероятным чудом сумел написать три века спустя после того, как закончилось ее время, книга, которая сочетает в себе все главные приметы барочной литературы и все главные мотивы Средневековья. Это как бы средневековая история, изложенная в барочные времена. И эти особенности учитывает Родари.
Во-первых, герой никогда не жалуется. Герой страдает единственный раз в жизни, и страдает он, когда у него отнимают отца. Правда, поскольку это сказка детская, тема жареного лука не появилась, Чиполло всего лишь посадили в подземную темницу, что для лука даже естественно. Но тема расставания с отцом, тема отца в тюрьме чрезвычайно важна в «Уленшпигеле». Уленшпигель, как мы помним, единственный раз заплакал, когда увидел пепел Клааса, и точно так же Чиполлино единственный раз заплакал, когда увидел отца в тюрьме.
Во-вторых, Чиполлино, как и Уленшпигель, – это герой, который сочетает в себе и борца, и балагура, – две очень важные функции в любом закрытом сообществе. Уленшпигель в самые критические минуты, когда, казалось бы, положено ему выкрикивать испанцам что-нибудь вроде «No pasaran!» («Они не пройдут!»), ведет себя с вызывающим, абсолютно шутовским, по Бахтину, – с карнавальным вызовом. И не случайно, когда император Карл предлагает ему в качестве последнего желания придумать просьбу, какую он, император, не сможет выполнить, Уленшпигель выдумывает просьбу блистательную: «Прошу ваше величество, прежде чем я буду повешен, приблизиться ко мне и поцеловать в те уста, которыми я не говорю по-фламандски» [103] Перевод А. Горнфельда.
. Разумеется, казнь отменяется, потому что для императора было бы равносильно самонизвержению проделать что-то подобное с арестованным.
Еще одна важная особенность «Уленшпигеля» – «Уленшпигель» сочетает и «Илиаду», и «Одиссею», то есть и образ действий, и картину того мира, в котором герой живет. После де Костера представить Фландрию другой уже при всем желании невозможно. Любой человек, который приезжает в Голландию сегодня, видит ее приметы, как их записал де Костер. Голландия может легализовать марихуану, однополые браки, американка Мэри Додж может написать о ней «Серебряные коньки», но она все равно будет такой, какой ее увидел де Костер, – с этой избыточной кухней, с этим потрясающим народным долготерпением и народным же юмором, с этими толстыми трактирными девками, которые смеются сальным шуткам едоков. Два символа Голландии во всем мире – это не марихуана и не каналы, а черная колбаса и белая колбаса.
Точно так же все главные топосы Италии знакомы нам прежде всего по «Приключениям Чиполлино». Вся Италия представляется нам, и не без оснований, как огромный огород, окруженный горами и морями. Это плодородная земля, и ее плодородие есть очень важный символ: это вечное, неиссякающее плодородие европейской традиции, плодородие народа, который не дает загнать себя в конуру.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

![Тед Хьюз - Новые стихи [Иностранная литература]](/books/371989/ted-hyuz-novye-stihi-inostrannaya-literatura.webp)

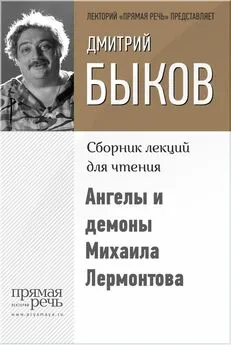
![Чарльз Буковски - Рассказы журнала [Иностранная литература]](/books/587604/charlz-bukovski-rasskazy-zhurnala-inostrannaya-lite.webp)

![Дмитрий Быков - Советская литература: мифы и соблазны [litres]](/books/1068513/dmitrij-bykov-sovetskaya-literatura-mify-i-soblazn.webp)



