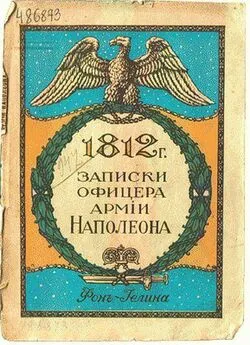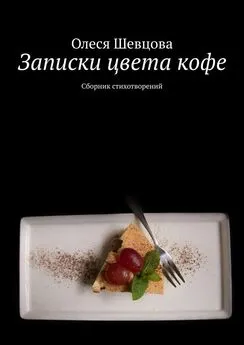Людвиг Витгенштейн - Записки о цвете
- Название:Записки о цвете
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людвиг Витгенштейн - Записки о цвете краткое содержание
Записки о цвете - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Способность к такому видению нам трудно представить. Однако мысленный эксперимент показывает, что наши цветовые понятий не абсолютны. Витгенштейн к тому же допускает до некоторой степени различные цветовые понятия у разных групп людей (ЗоЦ III, 32). В этом отношении можно выделить следующие группы примеров: 1. Нарушение в восприятии цветов и неправильное употребление цветовых понятий; 2. Наличие странных, но допустимых исключений в нашей системе цветовых понятий, не обусловленных нарушением зрительного восприятия; 3. Несводимость разнообразных языковых игр к единой системе цветов.
Остановимся на каждой группе примеров подробнее.
1. При дальтонизме «наблюдаются» нарушения восприятия красного и зеленого или синего и желтого участков спектра. Очень редко встречается ахроматопсия - полная слепота к цвету, которая также бывает разной, например цвета будут для человека с полной слепотой к цвету представляться оттенками серого и различаться только по светлости. При дальтонизме противопоставление красного и зелёного или синего и желтого цветов может не иметь смысла. И требование получить отдельный красновато-зелёный (не коричневый) цвет при дальтонизме может оказаться непонятным и восприниматься как абсурдное. Но и при нарушении восприятия дальтоник способен поддерживать языковые игры по описанию цветов и оттенков. Можно ведь прожить жизнь и не заметить собственного дальтонизма (ЗоЦ III, 31).
Цветовые понятия в рамках языковых игр обладают определенной (но не абсолютной) жёсткостью. Дальтоник не может сконструировать полностью независимую индивидуальную языковую игру с собственными цветовыми понятиями. Дальтоник просто употребляет наши понятия цвета неправильно. И дальтоника нельзя научить правильному словоупотреблению. Как нельзя слепому объяснить видение чего-то как красного (ЗоЦ I, 81). Никакое ‘внешнее’ описание феномена не устранит незнания слепого. Так, и я могу наблюдать и изучать дальтонизм, но не видеть глазами дальтоника (ЗоЦ I, 82). Переходу от нормального зрения к дальтонизму или к полной слепоте сопутствует частичное или полное выпадение (вплоть до полного непонимания) из соответствующих повседневных языковых игр.
Остается открытым вопрос: насколько человек с нормальным восприятием цветов может иметь отличные от наших цветовые понятия. И это всё тот же вопрос о жесткости цветовых понятий, вопрос о границах релятивизации цветовых понятий относительно языковых игр.
2. Человек научается использовать выражение ‘...оватый’. Его просят показать, скажем, красновато-желтый. Он научается распознавать цвета с большим или меньшим содержанием красного. Но если попросить затем указать на красноватозеленый, человек растеряется и не сможет понять просьбу (ЗоЦ III, 30). Такое продолжение последовательности цветов красных оттенков едва ли возможно (ЗоЦ III, 38). Человек может указать на оливковый цвет. И мы способны понять такое указание. Но, скорее всего, мы в таком случае скажем: оливковый цвет можно назвать красновато-зелёным, однако не в том же смысле, что и розовый цвет называют иногда красноватобелым. Определенная осмысленность в назывании оливкового цвета красновато-зелёным указывает на следующее: невозможность представить отдельный красновато-зеленый цвет принадлежит принятой ‘геометрии’ или ‘математике’ цвета и отражает логику наших цветовых понятий. Логика цветовых понятий изначально связана с соответствующими ‘эмпирическими’ языковыми играми и только потом становится относительно независимой, отдельной языковой игрой по правилам строгой системы цветов. Поэтому можно воспроизводить языковую игру как игру с одними лишь понятиями, например, как в случае с обозначением отношения между светлостью отдельных цветов или оттенков. Поэтому можно представить или предположить существование осмысленных, но ‘нерелевантных’ языковых игр.
Витгенштейн показывает, насколько не обязательны и не тождественны цветовые понятия в рамках разнообразных языковых игр. Художник может не иметь вовсе никакого представления о чистых цветах (ЗоЦ III, 28). Пусть некоторые не могут понять оранжевый как красновато-жёлтый. Выражение ‘красновато-жёлтый’ имеет для них смысл только в порядке указания на определенное место при переходе от красного к жёлтому. Здесь и ‘красновато-зелёный’ не будет проблемой. Однако они не научатся смешивать цвета и использовать понятие ‘красноватый’ (ЗоЦ III, 129). Витгенштейн говорит: «Верно ли сказать, что в наших понятиях отражается наша жизнь? Они находятся в её центре» {ЗоЦ III, 302).
Понятия одновременно и определяют порядок соответствующих языковых игр (чаще всего связанный с опытом восприятия цвета во времени) и выносятся за пределы эмпирического описания. Насыщенный или ‘чистый’ цвет X всегда по определению светлее насыщенного цвета Y, именно так и формируется ‘логическое’ понятие ‘насыщенности’ цвета {ЗоЦ III, 13). Белый самый светлый цвет. Но в рамках некоторой языковой игры белый может не быть самым светлым. Белые страницы книги расположены на картине в тени какого-то предмета, тогда белый - не самый светлый цвет {ЗоЦ III, 57). Снова требуется различать между языковыми играми. Цветовые понятия употребляются на границе между ‘логикой’ и опытом. Но определяются они внутри условно независимой от опыта системы цветов. Невозможно, например, знать чистый красный цвет сам по себе, как невозможно точно по памяти воспроизвести цвет какого-то предмета. Но на цветовом круге имеется соответствующая точка, которую нетрудно найти {ЗоЦ III, 7). Игра в поиск «внутренних отношений» цветовых понятий - это просто другая языковая игра, и в сравнении с соответствующими повседневными языковыми играми она необязательно предполагает обращение к цветовому кругу или к непрозрачным образцам цвета.
3. Цвет золота отличается от желтого цвета. «’Золотой цвет’ - это свойство поверхности, которая блестит или сверкает» {ЗоЦ I, 33). Некоторые цвета мы не называем блестящими или теплыми. Не бывает теплого серого цвета. Не бывает и серого или черного блеска {ЗоЦ III, 22). Блестящий серый мы назовем скорее серо-серебристым или даже серебряным. Блестящий блик серого металлического ведра скорее всего мы назовем белым. Но - хотя не существует черного блеска - бывает блестящий черный {ЗоЦ III, 152). Любой блеск - это свойство некоторой светящейся окрашенной поверхности. Блеск, в отличие от теплоты, не является непосредственной характеристикой цвета в нашей системе цветов.
Слова, обозначающие цвета или характеристики цветов, взаимосвязаны через употребление, но возможны и разные отклонения {ЗоЦ III, 75). ‘Отклонения’ не обязательно отражают нарушения восприятия (цветовые понятия Витгенштейн рассматривает как понятия зрительного восприятия) или существование странной и неудобной языковой игры (когда, например, красновато-зеленым цветом называется оливковый). Восприятие художником цвета может отличаться от нашего. Есть разные художественные приёмы. Так, имеется своеобразный прием для изображения яркого блика посредством цвета (ЗоЦ III, 77). Так, Рембрандт рисует золотой шлем желтой краской. Наиболее светлая часть шлема выглядит светящейся золотой. Едва ли кто назовет шлем желтым. Нелепо говорить, будто художник имеет собственные цветовые понятия. Просто художник не обязательно должен сообразовываться с ‘логикой’ цвета. Логика цвета не является всецело унифицированной.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


![Людвиг Витгенштейн - Философские исследования [litres]](/books/1057650/lyudvig-vitgenshtejn-filosofskie-issledovaniya-litre.webp)