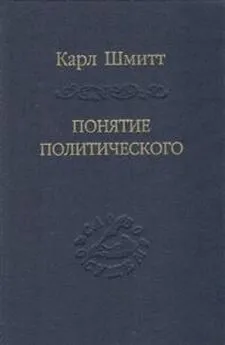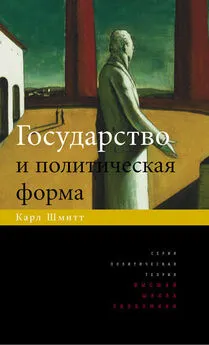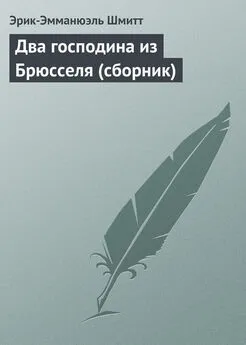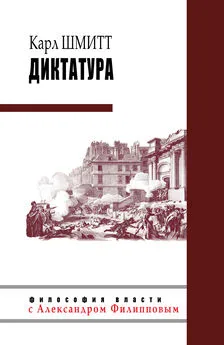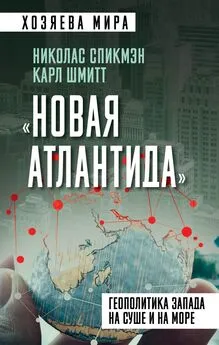Карл Шмитт - Понятие политического
- Название:Понятие политического
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:2016
- ISBN:978-5-02-038400-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карл Шмитт - Понятие политического краткое содержание
Понятие политического - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
381
Также и здесь возможны самые разные виды и градации полемиче ского характера, однако существенно полемическое в образовании поли тических слов и понятий распознать всегда можно. Терминологические вопросы становятся тем самым делом высокой политики; слово или вы ражение может одновременно быть отражением, сигналом, опознаватель ным знаком и орудием враждебного противостояния. Например, социа лист Карл Реннер, деятель Второго Интернационала (в имеющем весьма большое научное значение исследовании [правовых институтов частного права] {Renner К. Die Rechtsinstitute des Privatrechts und ihresoziale Funk tion. Tübingen: Mohr (Siebeck), 1929. S. 97), называет плату за наем жилья, которую съемщик должен платить домовладельцу, «данью». Большинство немецких юристов, судей и адвокатов отвергли бы такое именование как недопустимую «политизацию» частноправовых отношений и как помеху для «чисто юридического», «чисто правового» и «чисто научного» рас смотрения, потому что для них вопрос решен в смысле «позитивного пра ва», а политическое решение государства, которое здесь содержится, ими признано. И наоборот: множество социалистов Второго Интернационала считают важным, чтобы платежи, к которым вооруженная Франция вы нуждает разоруженную Германию, не назывались «данью», а говорилось бы только о «репарациях». «Репарации» кажутся более юридическими, правовыми, мирными, неполемическими и неполитическими, чем «дань». Однако если присмотреться внимательнее, то «репарации» окажутся еще более интенсивно полемическими, а потому и политическими, ибо это сло во означает политическое использование юридического и даже морального суждения о предосудительности (Unwert), чтобы, вынуждая побежденного врага к платежам, подвергнуть его одновременно правовой и моральной дисквалификации. Сегодня вопрос о том, следует ли говорить «дань» или «репарации», стал в Германии темой, по отношению к которой возникает противоположность внутри государства. В прежние века в споре между немецким императором (венгерским королем) и турецким султаном вопрос был поставлен в некотором смысле прямо противоположным образом: называть ли то, что император должен был платить туркам, « выплатой » (Pension) или данью. Здесь для должника было важно, что он не платит дань, но совершает «выплату», а для заимодавца, — что получает он имен но «дань». В те времена слова, по меньшей мере, в отношениях между христианами и турками, были, кажется, более прямыми и точнее затраги вали суть дела, а юридические понятия, быть может, еще не стали в той же мере инструментами политического принуждения, как в наши дни. Однако Боден, который упоминает об этом споре (см.: Bodin J. Les six livres de la République, 2 nd éd. Paris: Jacques Du Puy, 1580. P. 784), добавляет: по боль шей части и «выплаты» делаются лишь для того, чтобы защитить себя не от других врагов, но прежде всего от самого защитника, и откупиться от [его] вторжения (pour se racheter de l’invasion).
382
Неокантиански обоснованному тезису Рудольфа Штаммлера, что «сообщество свободно водящих людей» есть «социальный идеал», Эрих Кауфман противопоставил следующее положение: «Не сообщество сво бодно водящих людей, но победоносная война есть социальный идеал: по бедоносная война как последнее средство для достижения этой высшей цели» ([т. е.] участия государства в мировой истории и самоутверждения в ней). {Kaufmann Е . Das Wesen des Völkerrechts und die clausula rebus sic stantibus: rechtsphilosophische Studie zum Rechtsstaats- und Vertragsbegriffe. Tübingern: Mohr (Siebeck), 1911. S. 146). Это положение сочленяет типич но неокантиански-либеральное представление о «социальном идеале», с которым, однако, несоразмерны и несовместимы войны, в том числе и победоносные, с представлением о «победоносной войне», берущим на чало в мире философии истории Гегеля и Ранке, где, в свою очередь, нет никаких «социальных идеалов». Поэтому антитеза, сначала столь оше ломляюще убедительная, распадается на две совершенно разные части и даже риторический напор удачно контрастирующего [со штамлеровским] утверждения не может скрыть его структурной неоднородности и вновь срастить воедино обломки мыслей.
383
«Война есть не что иное, как продолжение политического общения с добавлением иных средств». {Clausewitz С . von. Vom Kriege, III. Teil. Ber lin: Ferdinand Dümmler, 1834. S. 140.). Война для него есть «только инстру мент политики». Конечно, и это тоже верно, однако ее значение для по нимания сущности политики этим не исчерпывается. Впрочем, если при смотреться повнимательнее, то война у Клаузевица — не один из многих инструментов, но « ultima ratio » группирования друзей и врагов. У войны есть своя «грамматика» (т. е. особые военно-технические закономерности), однако политика остается ее «мозгом», у нее нет никакой «собственной логики». Источником этой последней могут быть лишь понятия врага и друга, и именно эту сердцевину политического обнажает следующее вы сказывание Клаузевица ( S . 141): «Поскольку война принадлежит к поли тике, она будет принимать характер политики. Чем более величественной и властной становится политика, тем более и война становится такой же, и так до тех пор, пока война не достигнет своей абсолютной формы». Да и многие другие его положения демонстрируют, насколько сильно специ фически политические соображения основываются на таких политиче ских категориях. См., в особенности, его рассуждения о войнах коалиций и о союзах. Там же. S. 135 ff. См . также : Rothfels Н . Carl von Clausewitz, Politik und Krieg. Berlin: Dümmlers Verlag, 1920. S. 198, 202.
384
«Cette chose énorme ... la mort de cet être fantastique, prodigieux, qui a tenu dans l’histoire une place si colossale: l’Etat est mort» [ Это невероятно ... смерть этого фантастического , необычайного существа , занимавшего столь огромное место в истории : государство умерло ], говорит Е . Berth, обязан ный своими идеями Жоржу Сорелю в Le Mouvement socialiste , октябрь 1907 г ., р . 314. Леон Дюги цитирует это место в своих докладах : Duguit L. Le droit social, le droit individuel et la transformation de l’Etat. Paris: F. Alcan, 1908. Дюги удовлетворился констатацией : «L’Etat personnel et souverain est mort ou sur le point de mourir» [ суверенное и мыслимое как личность государство мертво или умирает ] ( р . 150). В его работе «L’État, le droit objectif et la loi positive». Paris: Anscienne Librairie Thorin et Fils, 1901, — таких формулировок еще нет, хотя понятие суверенитета он уже критикует именно так. Другие интересные примеры такого синдикалистского диа гноза применительно к состоянию современного государства см. в книге: Esmein A. Droit constitutional. T. 1. Ор . cit. P. 55 fî. Однако , прежде всего , см . интереснейшую работу : Leroy М . Les Transformations de la Puissance Publique. Les Syndicats des Fonctionnaires. Paris: V. Girard et É. Briere, 1907. Синдикалистское учение также и в том, что касается диагноза состояния современного государства, следует отличать от марксистской конструкции. Для марксистов государство не мертво и не умирает, напротив, оно пока еще действительно и необходимо, чтобы установить бесклассовое, а тем самым и безгосударственное общество; советское государство именно с помощью марксистской доктрины обрело новую энергию и новую жизнь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: