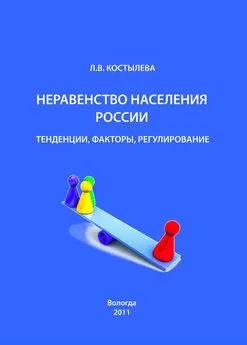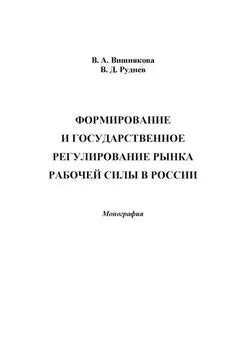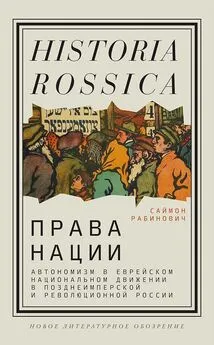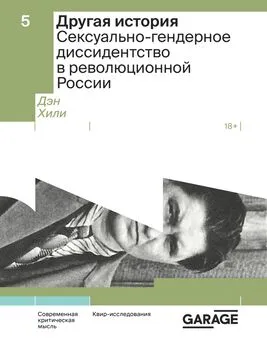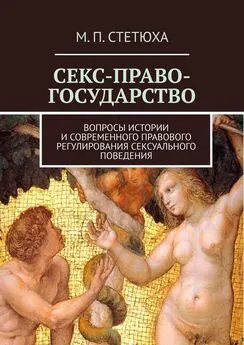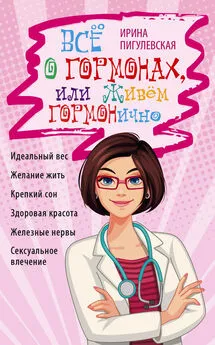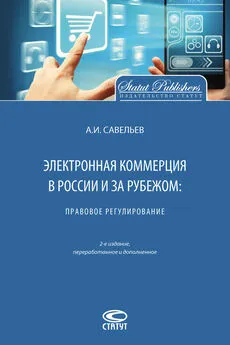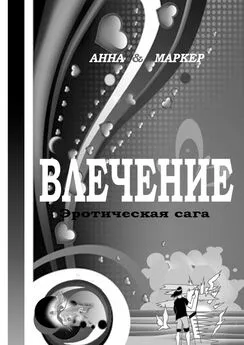Дан Хили - Гомосексуальное влечение в революционной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства
- Название:Гомосексуальное влечение в революционной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2008
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дан Хили - Гомосексуальное влечение в революционной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства краткое содержание
Гомосексуальное влечение в революционной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Исследование Карагандинского лагеря, примечательное использованием международной медицинской литературы по женской гомосексуальности, основывалось на делении гомосексуальных женщин на «активных» и «пассивных» 60. Е.М. Деревинская надеялась, что путем разделения ее пациентов на эта две группы, можно будет избежать противоречивых диагностических и терапевтических выводов, которые ранее делали исследователи. В ее описаниях «активной» и «пассивной» форм женской гомосексуальности перечисляются советские гендерные дезидераты 1950—1960-х годов. «В половой близости [активная гомосексуалист-ка] играла мужскую роль», раздевала партнершу, даже несла ее в кровать и «чаще всего занимала активное положение (сверху партнерши. — Ред.)». «Большинство активных» (41 из 57 в приведенном примере) «имитировали поведение мужчины — главы семейства». Они принимали основные решения, контролировали семейный кошелек (включая и средства, зарабатываемые их партнершами) и распоряжались расходами. «Все они не переносили грязи, неряшливости» и могли быть резкими, даже грубыми со своими партнершами. «Активные» женщины в этих «семьях» презирали «работу, считающуюся женской», «ни одна из них не готовила обед, не стирала, не занималась рукоделием». В то же время они с удовольствием выполняли «мужскую работу» — «кололи дрова, ремонтировали забор, крышу и т. д.». Двадцать одна пациентка из двадцати девяти «активных» овладела «мужской профессией». Среди выполнявшихся ими типично «мужских» работ автор упоминает ремонт обуви, вождение и работу на токарном станке. Почта половина «активных» женщин описаны как «трансвеститки», носившие, по крайней мере, какие-то детали мужской одежды. Одна «свободная» пациентка психиатрической клиники считалась в обществе мужчиной, поскольку по паспорту она была Андреем Ивановичем (см. ил. 25). Эта го-мосексуалка официально зарегистрировала брак с партнершей (вероятно, убедив персонал ЗАГСа в том, что она — мужчина). Вместе с детьми партнерши от предыдущего брака «они <...> образовали гомосексуальную семью». Андрея дети называли «папой». Большинство «активных» субъектов носили короткие мальчишеские стрижки, у тридцати шести имелась татуировка (свидетельство о том, что они жили в криминальном мире). Всем им нравилось, когда партнерши пользовались макияжем и носили платья с глубоким вырезом 61.
«Пассивные» же подруги придерживались фемининных норм поведения в половой и в неполовой жизни, иногда нарочито подчеркивая свою «женственность». От партнерш они ожидали, что те проявят инициативу и в интимной близости. Е.М. Деревинская цитировала некую женщину, которая утверждала: «Это мужское дело раздевать женщин». К партнершам они часто обращались в мужском роде («милый», «дорогой мой»). С точки зрения психиатров эти знаки романтической любви и нередко дававшие о себе знать «мазохистские тенденции» выступали как некая экзальтированность в следовании фемининным принципам. «Пассивные» женщины «терпеливо переносили побои, циничную брань». Дома они стирали белье, готовили и создавали уют для партнерш. «Внешний облик пассивных гомосексуалисток ничем не отличался от женщин их круга»: многие носили длинные волосы или косы, имели «женственную походку». Девятнадцать из тридцати девяти «отличались кокетливостью». Ни одного упоминания о проявлениях «трансвестизма» не сохранилось. Наоборот, все эта пациентки носили «женские платья», «любили <...> кольца, серьги, браслеты, броши», пользовались макияжем, некоторые красили брови и волосы. По характеру они были «мягкими», «легко подчинявшимися чужому влиянию». Двадцать четыре из тридцати девяти «пассивных» владели профессиями «женского» типа («швея, секретарь-машинистка, санитарка»).
Значительная часть исследования Е.М. Деревинской посвящена обзору западной литературы по терапевтическому подходу к гомосексуалам и ее тезису о том, что «активные гомосексуалист-ки» менее восприимчивы к медикаментозным мерам и хуже поддаются лечению, чем «пассивные». Этот аспект ее работы имел конкретный смысл для организации дальнейшей жизни возвращавшихся из ГУЛАГа людей, хотя об этом Е.М. Деревинская говорит в завуалированной форме. Особенно она выделяла положительный эффект, который может возникнуть, если устранить влияние, приводившее «пассивную» женщину к однополым отношениям. Автор полагала, что если такие женщины будут жить не с «активными гомосексуалистками», а в обществе, где достаточно мужчин, многие вернутся к «нормальной половой жизни» 62. Вместе с А.М. Свядощем в 1956—1957 годах психиатр-стажер провела курс терапии девяти женщинам (шестеро из них были «пассивными»). Пациентки согласились (хотя и не скрывали скептицизма) попробовать излечить свою гомосексуальность. Эти женщины принимали курс подавляющего либидо седативного средства (аминазин) 63и, как указывается, испытали значительное снижение полового влечения. Стоило прекратить прием лекарства, как гомосексуальное влечение вернулось, и Е.М. Де-ревинская сделала вывод о том, что лекарство лишь подавляло половое влечение, но не изменяло его «направленности». В семи случаях она сочетала лекарственную терапию с психотерапевтическими сессиями (которые подробно не описаны). В конечном счете трех «пассивных гомосексуалисток» удалось привести к «положительному результату», то есть к гетеросексуальным отношениям. Кроме этого, у одной «пассивной» и у всех трех «активных» гомосексуалисток какого-либо положительного эффекта [получить] не удалось» 64.
Спустя почти двадцать лет после того, как были описаны эти сугубо локальные «положительные» итоги, научный руководитель Е.М. Деревинской, открывший в 1973 году в Ленинграде Сексологический центр, предлагал схожие приемы лечения женской гомосексуальности. А.М. Свядощ следовал также западным теориям прошлых лет, в которых в определении сексуальной ориентации внимание концентрировалось на мозговых центрах и их предполагаемых функциях, однако делал вывод о том, что хирургические процедуры, предполагавшиеся этими теориями, слишком сложны и опасны. Будучи убежден, что в один прекрасный день благодаря исследованиям могли открыться «новые направления» для контроля над этой «сексуальной патологией», он считал, что лекарства и психотерапевтический режим, разработанные советской медициной, были сравнительно дешевы и эффективны 65.
Неспешное развитие «сексопатологии» как подчиненной дисциплины советской психиатрии в 19()0 1970-х годах означало, что большую часть усилий практикующие врачи направляли на создание институтов и защиту своих научных проектов. Какими бы ни были их личные убеждения, идеологически «слишком узкое и догматичное понимание нормы» порождало у врачей авторитарный и судебно-психиатрический сексологический взгляд — следствие партийного надзора и интеллектуальной изоляции Советского Союза. Разумеется, немаловажную роль сыграло ханжество многих экспертов, равно как и их руководителей 66. Кроме того, слабое понимание советскими специалистами природы сексуальности привело к тому, что сексуальные и гендерные отклонения изучались только с точки зрения патологии. Диспуты между специалистами (урологами, гинекологами и эндокринологами) по поводу правомочности выделения новой дисциплины — «сексологии» продемонстрировали недооценку психологического и эмоционального аспектов половой жизни. Врачи делали упор на технические средства, разработанные для механической коррекции дисфункций и дефектов. Игорь Кон осудил такое отношение как «плоть от плоти советской “репрессивной психиатрии”, которая помогала КГБ запирать в психушки инакомыслящих» 67. Однако нельзя связывать проблему с одной только партией или давлением Комитета госбезопасности. Советские медицинские традиции патернализма и соблюдения тайны экспериментов над пациентами и поставленного диагноза способствовали практике сексистской, не терпящей критики и принудительной «сексопатологии» 68.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: