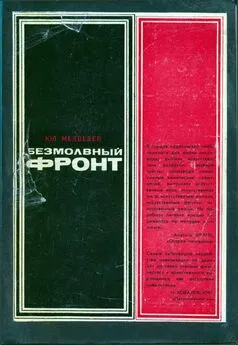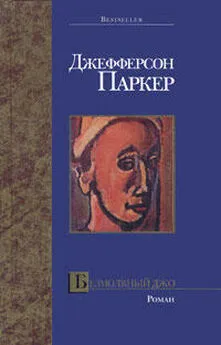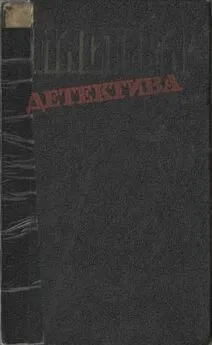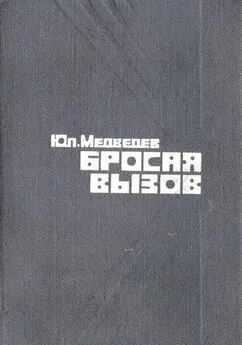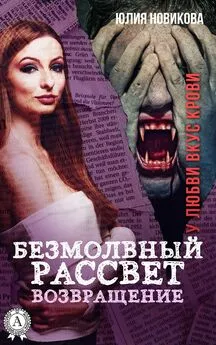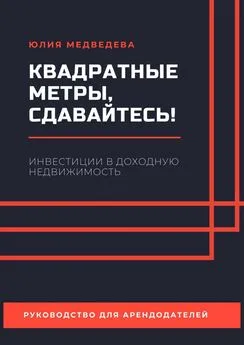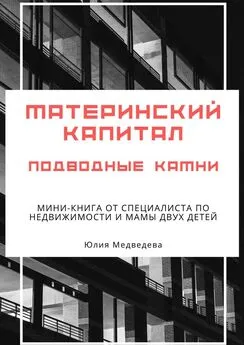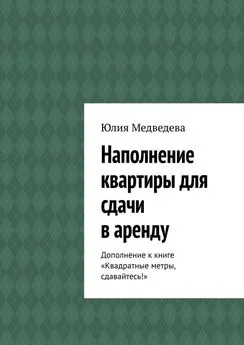Юлий Медведев - Безмолвный фронт
- Название:Безмолвный фронт
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство «Советская Россия»
- Год:1969
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юлий Медведев - Безмолвный фронт краткое содержание
Безмолвный фронт - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Там немного, здесь немного — постепенно и незаметно в тканях животного накапливается вещество, которое подавляет плодовитость.
В 1961 году Калифорнийский департамент по охоте и рыбной ловле провел исследование на кольчатых фазанах в естественных условиях выращивания риса и некоторых других зерновых культур. В отчете особо отмечается, что химическая обработка этих участков не выходит за рамки общепринятой сельскохозяйственной практики.
По соседству для контроля были оставлены чистые пространства, куда яды не допускались.
Вот результаты эксперимента. Из пятидесяти самок, которые были подстрелены для анализа, примерно половина — с заповедной территории. Во всех пятидесяти обнаружен ДДТ. Но в одних — от 19 до 2930 частей на миллион, в то время как в других — от 0,4 до 7,2. Тем не менее птенцы, выведенные в инкубаторе, были внешне не отличимы. Отличие выявилось позже. В течение первого месяца из птенцов, чьи родители жили на загрязненной территории, в живых осталась половина, а половина другой половины вырастали уродами. В контрольной группе за то же время погибло 27 процентов птенцов, уродливых было 12,9 процента. Эти же симптомы ученые обнаружили, в частности, у филина, ушастой совы, скворца, большой синицы.
Все ясно? Да нет, не все. Сами биологи, защитники природы, говорят, что подобные сведения могут служить предупреждением, но не доказательством. Непосредственно в природе наблюдать, как сублетальное отравление птиц и других позвоночных снижает их способность к размножению, слишком трудно, чтобы подобрать хорошее «досье».
Предполагать же худшее, то есть реальность исчезновения целых видов диких зверей и птиц, которые не могут восстановить свою численность, оснований предостаточно. Орнитологи сообщают, например, что от всего вида бермудских буревестников осталось на земном шаре сто птиц. Подсчитано, что воспроизводство их снижалось ежегодно на 3,25 процента в течение последних десяти лет, и если так будет впредь, то к 1978 году этот редкий вид исчезнет. Есть сильные основания считать, указывают авторы сообщения, что падение плодовитости бермудских буревестников вызвали попадавшиеся им в пищу остатки ДДТ и других инсектицидов.
КАКОВО ВРАГАМ!
Можно спорить — и спорят — о том, как велика опасность химической войны с насекомыми, но что она существует — бесспорно. Бесспорно и то, что по мере развертывания война эта становится все более рискованной. Опасность накапливается.
Это для нас и дружественного нам мира. А для нашего противника ситуация складывается иначе. Насекомые все чаще выдерживают обстрел. А некоторые виды — так те просто наживаются на бедах остальных.
Утопия о полной и окончательной победе над вредными насекомыми, которую породил в пору своей молодости ДДТ, держалась сравнительно недолго. Эффективность ядов постепенно снижалась. После опрыскиваний на стеблях и листьях растений оставалось все больше недобитых вредителей. Сначала это было дурным симптомом, потом стало подлинной трагедией. Скрывать поражение ДДТ было труднее и труднее.
Первыми его превозмогли мухи. Обыкновенные мухи, которые сопровождают человека, видимо, со времен его изгнания из рая. Они называются домовыми. Потом утратили былую восприимчивость к ДДТ платяная вошь, постельный клоп — в общем, те виды насекомых, с которыми людям хотелось покончить в первую очередь. Это было одним из горьких разочарований XX столетия. Оно не только погнало химиков в лаборатории искать новые и сверхновые препараты. Оно подорвало веру в химическое урегулирование биологических проблем.
За последние пятнадцать лет около 150 видов насекомых и клещей стали менее чувствительны к ядохимикатам. 150 из пяти с лишним тысяч — много ли? Однако надо учесть, что число ядоустойчивых видов растет быстро и что они представляют самых результативных вредителей. Ядоустойчивые распространились уже широко, встречаются и в селах, и в городах, и в лесах, и в болотах. Их не удается убивать той порцией яда, которой раньше было достаточно. И потому опрыскивание приходится проводить чаще, растворы применять крепче, чтобы достичь хоть прежних результатов. А это значит не разрешать, а только откладывать ненадолго и усугублять трудности. Когда — то они возрастают настолько, что превышают те трудности, ради преодоления которых был использован яд. И тогда препарат объявляют устаревшим, а на смену ему является другой, безупречный… до той поры, пока не окажется, что он: а) не безопасен для людей и скота, б) недостаточно опасен для насекомых.
Кризис инсектицидов мог быть предвиден. Ведь привыкание к ядам — это частный случай приспосабливаемости живых организмов вообще. Правда, во всю историю им не встречалось ничего столь необычного и сильного, как синтезированные яды. Но когда — то в новинку были насекомым и простые препараты, вроде медного купороса, бордосской жидкости и прочих. Как удается им выживать, не зная правил ПВХО? Почему мы, знающие эти правила и еще многое, не можем приспособиться к инсектицидам? Ответы на эти вопросы дает эволюционная теория и генетика.
«Жизнь, — пишет известный генетик Шарлотта Ауэрбах, — обладает тремя первичными свойствами, которые сделали эволюцию возможной. Первое — самое существо жизни, ее способность к самовоспроизведению. Второе — прогрессивная сила, создающая новые изменения живого; эта сила называется способностью к мутации, что означает способность к изменению. Третье свойство — консервативная тенденция, сохраняющая изменения, вызванные мутацией; она называется наследственностью. Без воспроизведения жизнь перестала бы существовать. Без наследственности не было бы преемственности между поколениями. Без мутации не было бы изменчивости, и жизнь никогда бы не развилась за пределы своих первоначальных форм».
В коллекционных ящиках, которыми украшена и загромождена квартира моего соседа — художника, путешественника и энтомолога Николая Николаевича Кондакова, рядами наколоты бабочки. В каждом ящике — десятки одинаковых. Этакий богатый ковер. Если вглядеться в орнамент настоящего текинского, скажем, ковра, можно заметить, что ковровщица позволила себе маленькие вольности при дублировании одного художественного мотива. То же и в галерее бабочек: под руководством знающего человека вы обнаружите неточности, которые позволяла себе ковровщица — природа, копируя живые орнаменты. Вот у этой, например, царственно окрашенной особы ножки опушены сильнее, чем у остальных… В судьбе текинского ковра почти незаметные неточности рисунка вряд ли сыграют какую — нибудь роль: его купят в комиссионном магазине за большие деньги и будут сохранять, конечно, не за эту мелочь, видимую лишь художнику. А в жизни бабочки еле заметные ее особенности могут быть причиной заметных последствий. Чуть — чуть более опушенные ножки оказываются привилегией! Причем наследуемой… Именно по наследству, этим оскорбительным в известном смысле путем, живой организм приобретает многие из своих личных черт.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: