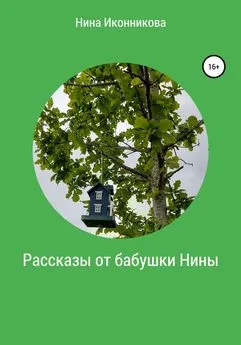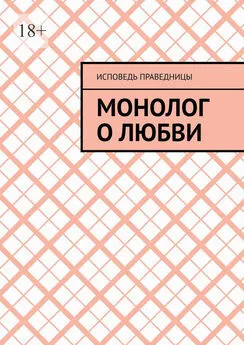Вениамин Додин - Монолог Нины
- Название:Монолог Нины
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вениамин Додин - Монолог Нины краткое содержание
Монолог Нины - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Никаких законов потому эти Богатыри Силы, превратившиеся в отморозков, не признавали. В том числе, — что оказалось на деле особенно чреватым, — даже «Законов Зоны», до поры до времени державших в узде не только тоже многомиллионную блатную вольницу. Но, в жестких шорах, саму, — не подчиняющуюся ни Богу, ни чёрту, «неприкасаемую», не терпящую вмешательства в дела её, — элиту уголовного мира. Своевольничали. И, не задумываясь, физически устраняли каждого, кто им сопротивлялся.
Так жили они, и поживали эти «Богатыри Силы». И, — уже после амнистий пятидесятых, вместе с воспитанными ими и за тридцатилетие поднабравшимися у них блатного опыта и духа поколениями молодого расплода, — дожили до конца восьмидесятых годов. Только целью их была уже не рутинная, — хотя и не без постоянного и вполне приличного фарта, — «мелочёвка». Но Большие Деньги. Очень Большие Деньги! Деньги Сумасшедшие. При чём, тайное — для не посвящённых — движение которых «силоборы» усекли десятилетием прежде всяческих спецслужб.
Но деньги–то эти были, как бы, заколдованы. Неуловимы. Они были — и их не было. Потому как быть не могло — всё же у нас государству принадлежало. Народу! Но… они снова появлялись — партиями — внезапно. И, партиями, исчезали тут же. Насовсем, будто «проваливаясь» куда–то. И, кто знает, возможно, что и за бугор…
Тогда ведь даже самая что ни на есть «законная» кодла о мировой банковской географии знать не знала. Но уже наслышана была, что деньги, которые «ходят и исчезают», и «прочие движимые и не движимые активы Государственного Банка», их обеспечивающие, не исчезают никуда! А стоят себе тихо в виде разных предприятий и заводов, рудников и просто месторождений — ну разной там недвижимости. Работают тихо. И тоже тихо и давно распределены, «по семейному», промеж детишек и внучат тех, которые в своё время порасстреливали пионеров–организаторов первоначального, и потому самого результативного, ограбления «не трудовой» бывшей России. А потом конфискационными «приговорами» 30–х — 40–х годов незатейливо, — теперь уже в своё «личное пользование», в свою н а с л е д с т в е н н у ю собственность, — экспроприировали у настоящих экспроприаторов сокровища воистину несметные! Практически, все богатства, все состояния, что накоплены были Россией и насельниками её за тысячелетие. Что создано было трудами её народа к октябрю 1917.
Если верить тем же большевикам — Коровину, Полонскому, Слиозбергу, другим — несть им числа, — ещё во времена женевского и берлинского иммиграционных сидений будущими вождями революции тщательнейшим образом проинвентаризированные. Не умозрительно, конечно же. А по солиднейшим экономическим справочникам, Главное, по бесчисленным, — чуть ни по каждому из раритетов и, персонально, их владельцам, — музейным, коллекционным и аукционным изданиям и тематическим альбомам и аукционным рекламным проспектам. С протокольным их перечислением и экспертным оценкам по имеющему хождение курсу.
Не так «просты, как правда», были эти радетели свободы, равенства и братства! (Коровин Иван Ильич, «Голгофа России», Б., 1934 г.; Полонский Арон Тевьевич, «Ленинград и Москва. Осмысление происшедшего», Н-Й., 1938 г. и Слиозберг Лев Павлович, «Так было!», Рига, 1929 г., В. Д.).
Братья Вайнеры отлично знали их, «публичку» эту, которая «… уж как–то слишком буквально поняла смысл (своего) политического лозунга «грабь награбленное!». А поскольку всё соблазнительное и не принадлежавшее ей казалось награбленным, то она и сама пограбила всласть. И время от времени всплывали (…) дворянские драгоценности, невиданные архиерейские панагии, нэпманские золотые портсигары — бездна милых пустяков, на обысках и изъятиях случайно попадавших не в протокол, а в бездонные карманы наших бойцов…». «…Ох уж эта наша страсть к полицейской работе! (Отсюда, вероятно, «искренняя» и с завидным упорством декларируемая вот уже восемьдесят лет кряду трогательная «убеждённость» моих особо чувствительных к теме соплеменников о том, что беспардонного ворья этого «деятельность вовсе не перечёркивает изначальной чистоты устремлений и искренней убеждённости в правоте!»).
Со времени первого русского обер–полицмейстера Дивьера (…) они хотят надзирать за правопорядком и нравственностью российского населения. А уж при советской власти они слетелись (сюда) как вороньё на падаль. Уж очень эта работа пришлась им по сердцу, национальный характер раскрылся в полной мере. Ну и, конечно, сладко небось было вчерашнему вшивому пейсатому парию сменить заплатанный лапсердак на габардиновую гимнастёрку с кожаной ловкой портупеей, скрипящие хромовые сапожки, разъезжать в легковой машине и пользоваться властью над согражданами, доселе невиданной и неслыханной.
Работники они были хорошие… Это не их заслуга, а удачное приложение национального характера к завитку истории. То, что их веками презирали и ненавидели другие народы, сделало их (здесь) лучшими и незаменимыми…
До поры, до времени.
Ибо в быстротекущем времени они понесли самые большие потери. Волны чисток — одна за другой — вымывали их из несокрушимого бастиона «органов». Их выгоняли, сажали и расстреливали как ягодовских выкормышей, потом как окружение Дзержинского и Менжинского, потом как ежовцев, потом как абакумовцев.
И только уже потом — просто как евреев.
Смешно, что смерть Пахана спасла их от полного уничтожения, но сразу же за этим поднялась заключительная волна их изгнания и посадок (и расстрелов, В. Д.) — подгребали бериевских последышей. (…) А тогда (летом 1953, В. Д.) они ещё служили. В ежедневном ужасе, в непреходящей тоске (до последнего часа) яростно и добросовестно трудились…» (Аркадий и Георгий Вайнеры, «Евангелие от палача», М., 1991 г., с.237–239).
Прощения прошу за столь длиннющую цитату. За то ещё, что позволила Бену вставить её в приводимый им мой «японский» монолог. В силу исключительных, несомненно драматических обстоятельств, спонтанно вырвавшийся у меня, молчуньи на людях. И вообще молчуньи. Монолог сумбурный. По видимому, мне необходимо было выплеснуть десятилетиями копившееся во мне чудовищное информационно–психологическое напряжение, накопившееся за шестидесятилетие моей и моей России непрекращающейся трагедии…
Или даже не монолог — исповедь. Исповедь, конечно же, адресовавшуюся Человеку очень близкому мне, нам с Беном, из–за страшной «игры» — переплетения наших судеб. Необыкновенному Человеку. Произведшему на меня впечатление, потрясшее моё воображение. А ведь ко времени встречи с ним я повидала Мир. Познакомилась с людьми интереснейшими. Мало сказать, не ординарными.
И ещё потому позволила, что Бен оканчивал — как будто бы! — вот это вот пол века ожидаемое мною от него повествование о моих Адлербергах. И, — постоянно обуянный страстью добиваться, чтобы его (по отцу) евреев не убивали за то, что евреи, а его (по маме) немцев — даже в этом поминальнике о людях давно усопших стремился отделить Зерно от плевел. Полагая, что народ — любой народ — не должен отвечать за своих мерзавцев. Для чего мерзавцев своих он обязан знать «в лицо»!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: