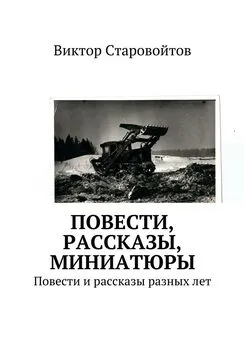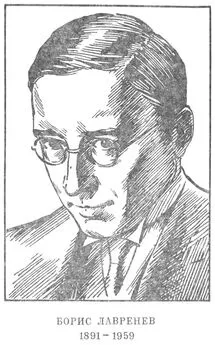Вениамин Додин - Повести, рассказы, публицистика
- Название:Повести, рассказы, публицистика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вениамин Додин - Повести, рассказы, публицистика краткое содержание
Повести, рассказы, публицистика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Интересно, редакторы изданий 1960–2008 гг. военных мемуаров Главного маршала авиации А. Е. Голованова и авторы обширных предисловий к ним, — обильно цитируя осанну ему из Суворовских бестселлеров, — настоятельно и категорически пытаются отрицать факт сотрудничества и даже просто знакомства его со Сталиным до февраля 1941 года (Правда, делая это так «ненавязчиво» и «искусстно», что у читателя ни на минуту не возникает сомнений…в ими отрицаемом). Калейдоскопически сменяющие друг друга составы политуправлений армии много лет пытались заставить и самого Голованова утверждать то же. Даже издания его рукописей ставили (известные шарлатаны и шантажисты!) в зависимость от «послушания» их автора! Он их посылал… Утираясь, они упорно просили, требовали, заставляли. В 1997 году, — двадцатилетие спустя после его смерти, — Воениздат впервые выпустил мемуары маршала. И в них, — теперь уже как бы от его, якобы, имени, — громогласно, официально и победно, победительно(!) даже, — утверждается, что…Александр Евгеньевич Голованов, якобы, «до начала 1941 года со Сталиным не встречался никогда»… Ну, не встречался и всё! «Добили» покойного… Не потому ли второе, парадное (чёрное!), послевоенное издание Большой Советской Энциклопедии выпустили… без упоминания в ней имени Главного маршала авиации Голованова! Во как у нас позволяли вести себя шестёрки с Новой площади!… Словом, отомстили. Кому же? Александру Евгеньевичу покойному? Никак нет! Отомстили тысячам героев–авиаторов Второй мировой, боготворивших своего командира. Отомстили миллионам солдат и офицеров войны–окопникам. В бесконечные, томительные, страшные ночи в норах–могилах своих вслушивавшимся со святой надеждой в грохот посылаемых Им и подлетающих грозных Его бомбардировщиков Ил-4. В свист и вой бомб атакующих Берлин по Его приказам стремительных и не остановимых никакими ПВО пикировщиков Пе-8…
Тем временем, подробности сотрудничества Голованова и Сталина по воле Виктора Суворова разошлись по белу свету и даже по России… И с ними (или у них), — как с Христом и Пилатом, — получилось: «помянут Одного — помянут Другого»…
Сам Александр Евгеньевич не то что бы гордился этой немыслимой дружбой с человеком, ни с кем никогда не дружившим. Он просто как должное принимал её. Естественно, не афишируя, однако, роли своей в событиях новейшей российской истории, дружбе той сопутствовавшей. Болтать о том — себе дороже. Мысли же о хоть каком то участии Голованова в очищении страны драконовскими методами (быть может, знает кто иные для России методы? Сообщите по E-imeil. Буду благодарен), воспоминания о них — они в голову его не приходили. Очистил, исполнив волю учителя — святителя Серафима — слава Богу. Впрочем, как и воспоминания об участии в двадцатилетней катастрофической подготовке страны к грядущей военной… катастрофе. В любом случае не надо думать об Александре Евгеньевиче предвзято: начал он сближение с тираном в великой ненависти и к нему. Но, «шевеля» старо большевистскую шоблу, быстро осознал, что готовила она стране. Понял, — сам, без подсказок, — что искать надо хоть в чём–то, хоть в самом малом пусть, но меньшее зло изо всех самых страшных зол, порождённых октябрьским переворотом. А творимое на сём дьявольском фоне Сталиным, — (всё ж таки, «с младенчества воспитанным в православии», так Шурик это объяснял мне, сам по утверждении в Москве пасшийся у апостолов Степанычева друга и духовника святителя Серафима в Васильевском храме Дмитрова), — не самое страшное. Это понял он ещё в бытность не шибко начитанным «уполномоченным». Потом Степаныч свёл его с Исааком Ильичём (Меламедом), вечным (сколько автор помнит себя в юности) сидельцем в киоске Союзпечати, что в фойе восточного крыла здания Политехнического музея. Удивительный и бесстрашный «киоскёр» этот презентовал ему, а потом и мне тоже много чего (Да в годы то какие, когда родным отцам с матерями не доверяли!). Главное, приносил и давал читать прижизненные издания самого Троцкого (и ближних апологетов и апостолов его), за что ставили к стенке каждого «попавшегося» на таком контрреволюционном чтиве. И мир перевернулся для него — «на ноги встал с головы»: такой эрудиции, таких знаний, воли такой, задумок таких личность раскрылась перед ним!…Но…Сам понял: не приведи Господь, и Боже упаси личности той захватить власть в России! И задумкам её осуществиться! И Сталин предстал в глазах Голованова…спасителем. Однако, однако…Прозрение это не деформировало характера моего названого родича. Не помешало ему в минуты кончины неожиданно сказать жене, Тамаре Васильевне, в самых последних обращённых к ней — любимой — словах: «Мать, какая страшная жизнь!». Повторив их трижды… — Что ты? Что ты? Почему так говоришь? Почему страшная жизнь? — закудахтала мать пятерых его детей — женщина до старости великого ума и неземной красоты, лицо которой навсегда перечёркнуто–изуродовано было судорогой, обретённой на лубянском «собеседовании» 1937 года… И он ответил: «Твоё счастье, дурочка, что ты этого не поймёшь…»…
Потому, — как бы к слову, — ещё раз о Сталине.
Так что же узнал о нём, что угадал в нём за те же несколько ночей общения с ним в далёкие годы мой Александр Евгеньевич? Мальчишечками, — ещё кадетами Московского Екатерининского корпуса, — с братиком Толей прочли они единым духом «Трёх мушкетёров». Прочли на языке оригинала, которым, как истые дворяне, владели с рождения, не сомневаясь в том, что и он тоже родной. И в кипени жизни не потеряли его! Для Шуры, пацана, в 14 лет сбежавшего «на войну», это тоже подвиг!.. Прочли, поняли и впитали замечательный (не исторический конечно, но нравственный безусловно!) роман великого Автора так, как, — к сожалению, — не получилось того у множества миллионов достойных этого счастья мальчишек европейской культуры но русской словесности.
Роман запомнил Александр наизусть, как запоминал стоившие его внимания книги (у Толика такой уникальной памяти не было). Прочёл, понял и конечно запомнил всегда впоследствии волновавшую его сцену за решеткой королевской усыпальницы в Сен—Дени из второй книги–продолжения романа — «Двадцати лет спустя». Сцену, пережитую героями, такими, как и сам он, дворянами — Атосом и сыном его Раулем (любил которых, которым старался подражать, стать достойным которым мечтал).
…За решеткой…на последней площадке лестницы склепа горела серебряная лампада, под которой стоял на дубовом помосте катафалк с гробом, покрытым лиловым бархатным покровом, расшитым… лилиями…Рауль медленно и торжественно сошел по лестнице и остановился с обнаженной головой перед останками последнего короля, которые не полагалось опускать в могилу, где поколись предки, пока не умрёт его преемник; эти останки пребывали здесь для того, чтобы напоминать человеческому тщеславию, нередко столь заносчивому на троне: «Прах земной, я ожидаю тебя».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: