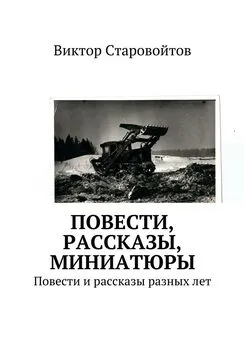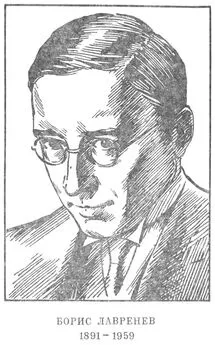Вениамин Додин - Повести, рассказы, публицистика
- Название:Повести, рассказы, публицистика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вениамин Додин - Повести, рассказы, публицистика краткое содержание
Повести, рассказы, публицистика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А ещё один старинный друг Соломона Фабрициус Ян Фрицевич предупредил даже: «Я не пророк, но у меня нет малейшего сомнения в том, что они обратят несчастную Россию в страну нищих с царящим в ней иностранным капиталом…»
На 70 лет вперёд заглянул, мудрец!
* * *
… Надо знать, кем был наставник и духовный отец САМОГО Панкратова а потом и Голованова? Кто выбрал Слова святые и передал ими смысл наставления? Надо знать жизнь святителя Серафима, называемого высокими коллегами его «Свете тихий».
…Вот строки, что моим Степанычем вписаны были в дневник о духовном отце его. Степаныч мне показал их, дал прочесть и велел переписать:
«…Появившийся на свет в Москве в 1883 году, и при крещении получивший имя Николай, он окончил приходскую школу того же храма где настоятельствовал его отец. За тем Заиконоспасское духовное училище и Московскую духовную семинарию. Ещё семинаристом он наделен был величайшим даром духовного красноречия: проповеди его, ещё не имевшего священнического сана, привлекали слушателей из наиболее образованных прихожан Сергиева посада, городских и сельских интеллигентов, вообще читающую рабочую публику. За годы учения в Московской академии он утвердился в выборе монашества, став духовным сыном старца Зосимовой пустыни иеромонаха Алексея (Соловьёва). В пустыни он познакомился с архимандритом Чудова монастыря Арсением (Жадановским). Отец Арсений полюбил скромного, духовно настроенного студента. Возникла удивительная духовная дружба, основанная на взаимном понимании и согласии. Родились отношения, связавшие навеки двух будущих епископов — Арсения (Жадановского), вскоре рукоположенного во епископа Серпуховского, и Серафима (Звездинского), который любил повторять: «Как владыка, так и я». И который сам был удостоен владыкой Арсением почтительного и благоговейного имени — «Свете тихий» — за молитвенность, тишину и кротость. В 1909 году Николай принимает постриг и становится иеродиаконом. Окончив в 1908 году духовную академию со степенью кандидата богословия, иеромонах Серафим назначается преподавателем церковной истории в Вифанскую семинарию, где будущий епископ «молился за каждого своего ученика».
27 мая 1914 года инока Серафима возводят в сан архимандрита и назначают помощником наместника московского Чудова монастыря. Там застал его переворот. При варварском артиллерийском обстреле большевиками СВЯТОГО ЦЕНТРА Москвы — седого Кремля, — он не покидал своей кельи: вокруг и рядом за стенами рвались снаряды, по фасадам били пулемёты, отлетали осколки простенков, но ни один снаряд, ни одна пуля не влетели в его окно. Когда его пытались увести и проводить в погреба (где он мог отсидеться), инок Серафим просил не беспокоиться: «Со мной ничего не случится!». Рака с мощами святителя Алексия, у которой молился чудовский архимандрит, осталась неповреждённой, сам старец жив и цел…
В августе 1918 года, когда большевики приказали монахам покинуть Кремль, архимандрит Серафим уехал в Серафимо—Знаменский скит, но уже летом 1919 года ему доставили письмо от патриарха Тихона, в котором сообщалось, что московский первосвятитель имеет в нём нужду и желает видеть его епископом. Архиерейская хиротония архимандрита Серафима состоялась 15 декабря 1919 года в Васильевском кафедральном соборе подмосковного Дмитрова. Святитель Тихон, рукополагавший будущего священномученика, вручил ему архипастырский посох и обратился к нему с трогательным словом: «По молитвам ныне празднуемого святителя Петра, митрополита Московского, желаю, что бы ты был для града Дмитрова тем же, чем был святитель Петр для нашего града Москвы, — утверждением».
Три года, проведенные святителем Серафимом на Дмитровской кафедре, стали свидетельством того, что он действительно «был для града Дмитрова тем же, чем был святитель Петр для Москвы, — утверждением». Казалось, что для архиерея и его паствы вернулись те апостольские времена, когда епископ был естественно прост и доступен для каждого, кто приходил к нему с бедами и скорбями. Да и в самом деле: архиерейский дом отличался от всех прочих не столько внешним видом, сколько постоянной очередью у его дверей. Православный люд со всей епархии шел к своему архипастырю за советом и утешением, но владыка Серафим, не довольствуясь присутствием тех, кто приходил к нему сам, посещал «дорогих дмитровцев» поздним вечером, когда в домах уже гасли огни.
Власти Дмитрова неоднократно арестовывали владыку Серафима, но всякий раз народ и его воспитанник (Александр Евгеньевич Голованов) добивались его освобождения. В 1922 году, в самый разгар обновленческой смуты, поразившей московские и подмосковные кафедры и приходы, Дмитров оставался чисто православным, «тихоновским». Дмитровский владыка отслужил последнюю службу в соборе 27 ноября 1922 года — в день празднования иконы Божией Матери «Знамения», и уже на следующий день вызван был повесткой в Москву. С этого времени начался долгий, более чем десятилетний, крестный путь архипастыря, разлученного со своей паствой, которая, однако, не оставляла святителя и в заточении. Приезжавшие в Москву дмитровцы писали ему записки, передавали передачи, сутками дежурили у стен Лубянки. Перевод святителя Серафима в Бутырки превратился из рутинного конвоирования в торжественный крестный ход, равного которому первопрестольная давно не знала. В Бутырках же, не смотря на тяжелейшие условия и поразившие старца болезни, он служил литургию, исповедовал и молился у иконы «Скоропослушницы», которую прикрепил хлебным мякишем к стене своей камеры. Здесь, в тюрьме, святитель Серафим написал и свой акафист Страждущему Христу Спасителю — акафист, в котором повторялись слова: «В несении креста спасительного, десницею Твоей мне ниспосылаемого, укрепи меня, вконец изнемогающего». Владыка изобрёл и тайный язык, на котором писал письма своим чадам, посылавшим ему необходимые для богослужения священные предметы. «Сухарики, платок от матушки Евхаристии получил», — сообщал Дмитровский епископ, благодаря их за присылку просфор и антиминса. Называя просфоры «вкусными целебными сухариками», святитель просил сшить ему омофор — «фартук с крестиками»…Благодаря Бога за то, что на собственных страданиях он может пережить страдания Христовы, епископ пишет в Дмитров: «Христос родился в вертепе, встречу и я Рождество Его в темнице…В страдании — Христос. Никогда не получал я столько утешения, света и радости, как в тюрьме…Внутренне Господь так стал утешать меня, таким миром и сладостию и радостию увеселяет душу мою, что на свободе я этого никогда не испытывал».
Здесь, в заключении, изливает он свою любовь и благодарность духовным чадам: «Радости мои, дмитровцы родные, весна, цветы архиерейства моего, цветите, врастайте глубже в благодатную почву православия. Не сходите с этой почвы. Ни на шаг не сошел и я, хотя и был усиленно сводим, — Господь подкрепил. Старчествовать приходится и здесь». В ответ на полные любви и заботы письма святителя «дорогие дмитровцы» отвечали ему: «Ждём дорогого благословения и живём им и словечками, полученными из–за сумрачных стен». И снова — редкие по искренности письма пасомым: «Праздную, светло торжествую четвёртый месяц душеспасительного заключения моего… Знай, что настал час отойти мне от вас, только теперь вижу, как люблю вас; до конца возлюбил. Скажите, чтобы умер за вас, — умру… Я молюсь с воплем и крепкими слезами, чтобы Господь оградил Церковь Дмитровскую от вторжения лжеучителей».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: