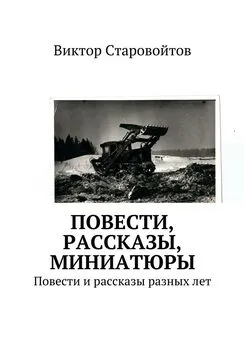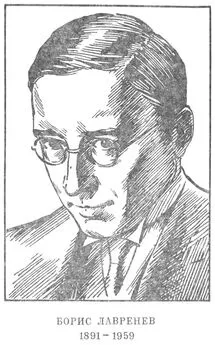Вениамин Додин - Повести, рассказы, публицистика
- Название:Повести, рассказы, публицистика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вениамин Додин - Повести, рассказы, публицистика краткое содержание
Повести, рассказы, публицистика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Баку. Время — март 1921 — январь 1924 года. Герой — Гуревич Владимир (Вольф) Яковлевич, начальник Закавказского пограничного округа, председатель Закавказского ЧК, председатель «тройки». Члены «тройки» — Багиров Мир Джафар и Гнесин Павел Гаврилович (Моисеевич). Результат — 67 452 смертных приговора с немедленным исполнением. «Несудно» расстреляно «более 44 600…».
Ташкент. Время — август 1925 — май 1926 года. Герой — Кацнельсон Израиль Борухович, начальник Туркестанского пограничного округа, председатель ТурЧК, председатель «тройки». Члены «тройки» — Егоров Василий Петрович (и слава Богу!) и Мирзоев Илья Давидович. Результат работы — 77 420 смертных приговоров с немедленным исполнением. (Это за девять–то месяцев! Хотя, конечно, принципы построения схем производительности труда на ниве расстрелов мне недоступны.) О «несудных» убийствах: в бумагах аппарата ЧК их тьма. Сальдо мне попросту не дали сделать — заторопили.
Далее. Благовещенск. Время — март 1923 — март 1925 года. Герой, герой… Гуревич Илья Яковлевич, начальник Забайкальского пограничного округа, председатель Забайкальского ЧК, председатель «тройки». Члены «тройки» — Элькин Моисей Шлемович и Гительман Его (Пинхас) Самуилович. Результат работы — 21 420 смертных приговоров с немедленным исполнением. О «несудных расстрелах» архив молчит. Зато имеется список списанных «посудин» — восемьсот семьдесят наименований или номеров «плавсредств», «угнанных» в «понизовье» с исчерпывающе означенным грузом: «спецконтингент» (так в перечне и в коносаментах!). И до «Бакинского этапа» мы осведомлены были о «моде» «загонять народы в трюма и притапливать»! Более того, география «притапливания» тоже «биномом Ньютона» не была: «притапливали» в понизовьях северных и сибирских рек. Но почему–то именно Амур считался чемпионом по этому виду «спорта». Теперь вот — документы в архиве. Не для того, чтобы выгородить своего соплеменника, поясню: туда, в порт Свободный на Зее, притоке Амура, «спецконтингент» шел уже приговоренным режимом к смерти, более того, к определенному ее виду — утоплению. Потому сам процесс убийства «притапливанием» вряд ли можно в качестве самодеятельности приписать нашим героям… Они — исполнители.
Наконец, Хабаровск. Время — январь 1923 — ноябрь 1924 года. Герой — Мякотенок Илья Харитонович (Хаимович), начальник Дальневосточного пограничного округа, председатель ДальЧК, председатель «тройки». Члены «тройки» — Лиепа Август Петрович и Гликман Хаим Нусинович. Результат — 5214 смертных приговоров и что–то около трех тысяч «бессудников». Мизерность этих цифр — в мизерности же населения Дальнего Востока тех далеких лет: один человек на квадратные полсотни верст тайги и тундры. Общее число казненных пограничниками в начале 20–х годов по всем семи округам не включает рутинных, в оперативном порядке ведшихся, ликвидаций бесчисленных «нарушителей границ», десятками, возможно, сотнями тысяч пытавшихся бежать из совдепии.
Приведенные цифры нашего еврейского вклада в облагодетельствование россиян одним лишь «пограничным ведомством» — семечки в сравнении с нами же достигнутыми в куда более серьезных ведомствах, в ГУЛАГе например, действовавших на неизмеримо более обширных, чем «пограничная зона», и несравнимо более плотно населенных пространствах нашей родины.
Но они интересны тем, что также раскрывают повсеместно вошедшее в практику формирования аппаратов подавления кагально–семейное начало— обстоятельство, напрямую вытекающее из нашей традиции!
Так, в приведенном «пограничном» случае Залман, Берка и Израиль Боруховичи Кацнельсоны — родные братья. Видимо, по случайности они же — братья двоюродные самому начальнику Главного управления погранвойск Российской республики Михаилу (Мордуху) Петровичу (Мордке) Фриновскому (Малкину, обладателю еще шести воровских кликух в блатном мире Юга России). Случайно Исаак Семенович Межеричер и Вольф Яковлевич Гуревич — мужья Брони и Цили, сестер «Фриновского». А Мякотенок — племянник.
Хотя доброхоты требуют «акцентировать интернационализм товарищей», «абсолютную непричастность их к еврейству и полную отчужденность от своего народа». «Какие они евреи?! Где вы видите в них евреев?!» И самое трогательное, до слез: «Их деятельность вовсе не перечеркивает изначальной чистоты их устремлений и искренней убежденности в правоте!»
«Изначальная чистота их убеждений» раскрылась мне, пацану, через неделю после 4 февраля 1939 года, когда вся эта погран–мишпоха отстреляна была козлобоями «автокомбината» по Варсонофьевскому переулку, дом 9/7, — Евзером Натановичем Песаховичем, Моисеем Ильичом Голдовским, Самуилом Григорьевичем Арановичем. А «сам» Михаил Петрович Фриновский — заодно с наркомом Ежовым и моим почти что приятелем Моисеем Фельдманом, комендантом. Тоже евреем.
Должное отдадим Сталину: высшей пробы юмором обладал вождь народов!
Шмональщики семейных нор бывшего погранначальства — специалисты, весьма привычные ко всему, — диву давались обнаруженному: обрамленным и выдранным уже из рам тысячам полотен великих художников; собраниям блистательных графиков; невиданной красоты и ценности скульптуре бессмертных ваятелей; редчайшим по содержанию и полноте коллекциям монет, орденов, гемм, камней и, конечно, камней драгоценных.
29 марта организована была для высшего руководства страны закрытая «Выставка драгметалла и драгкамней, изъятых у преступников». Заняла она восемь из десяти экспозиционных помещений Музея пограничных войск по Большой Бронной. На другой день после посещения ее членами правительства меня завел туда совершенно потерянный (в день расстрела «Миши» мы поставили ему «свечечки» в синагоге по Большому Спасоглинищевскому переулку и в храме Богоявления) Степаныч, зная, кто такой «Фриновский», жалел его, шептал только: «Надо же! Я‑то думал, он просто бандюга, а он вором обернулся…»
…Залы ломились от литого старого серебра и «медового» золота. А в одном из них мне стало плохо: увидел знакомые ритуальные канделябры — показалось, из дедова дома…
У меня дыхание перехватило… Я как–то вовсе потерялся… Но успел заметить и нашел силы разглядеть сложенные аккуратными штабельками на металлических столиках слитки золота и платины, «сработанные, — как гласили прислоненные к ним таблички, — из извлеченных у убитых преступников стоматологических протезов…». И несколько рядом расположенных больших стеклянных, как… из–под варенья, круглых банок, до крышек набитых спрессованной массой из… коронок, «мостов» и отдельных «рыжих» зубов…
Видно, их забыли или не успели разобрать и тоже переплавить.
Степаныч ничего объяснять не стал. Сам я увиденного не понял. Значимость этих экспонатов дошла до меня аж в 1942 году на Безымянлаге. Тогда, в восточном секторе «тоннелей связи» подземного города под Жигулями, я вновь увидал такие же «стоматологические» изделия. Только не в таре из–под варенья. Ими, как изоляцией, обложены были вскрытые кабели правительственной связи. Охранявшие их чекисты — они же охотники–любители — содрали с них на пули (!) свинцовую оплетку. Заменили ее той самой «стоматологией». Укутали плотно тряпками.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: