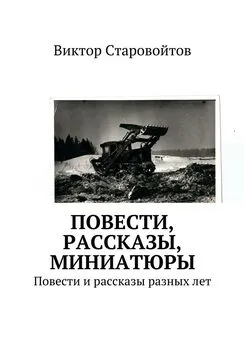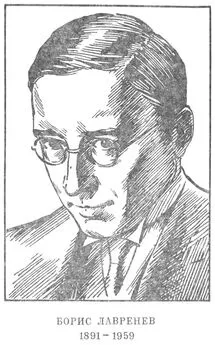Вениамин Додин - Повести, рассказы, публицистика
- Название:Повести, рассказы, публицистика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вениамин Додин - Повести, рассказы, публицистика краткое содержание
Повести, рассказы, публицистика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
1952–53 гг.
Ишимта, Красноярский край
ОСВОБОЖДЕНИЕ
…В середине сентября 1939 года по сговору с Гитлером сталинская армия и войска НКВД ворвались в Львовскую, Станиславскую и Тернопольскую области Восточной Польши — в Западную Украину. Начались массовые аресты и повальные расстрелы украинских интеллигентов, священнослужителей, крестьян, рабочих — геноцид нации. Народ ответил глухим сопротивлением. Советские власти приступили к тотальной депортации украинского населения в восточные и северные районы СССР — на смерть.
Тогда народ Украины взял в руки оружие. Начались кровопролитные бои с оккупантами. Перед украинскими повстанцами остро встала проблема: что делать с многочисленными ранеными бойцами? Как быть с множеством мальчишек и девчат, «самостійно» искавших встреч с энкаведистскими солдатами и безжалостно расстреливаемых оккупантами?
И тогда, в январе 1940 года, группа врачей из Львова и Станислава, получив предварительное добро Бандеры, ушла в горные леса на станиславщину. И там, у родного хутора доктора Милены Костарив, за Болиховым, в глухих верховьях Свичи, развернули в старых землянках настоящий но тайный полевой лазарет.
Годы советской, потом гитлеровской и снова советской оккупации прошли у врачей этого лазарета в неимоверно тяжёлом труде. Все десять лет — с 1940 по 1950 годы состав медиков почти не менялся, почти, потому что одиннадцать из них погибли в боях, когда им пришлось взять в руки оружие и на дальних подступах к лазарету насмерть встать рядом с бойцами УПА.
В феврале 1950 года их обнаружили. Территория лазарета была окружена. Обслуга и его младший медицинский персонал зверски убиты вместе со всеми ранеными и больными. Каратели из войск НКВД не пощадили даже детей — раненых и больных, которыми были забиты две из восьми землянок лесной лечебницы. Арестованы были врачи Грицко Пивень, Евген Поливняк, Соломон Ливницкий, Сидор Маланюк, Залман Фишзон, Микола Гуцало, Стефан Мазарук и Милена Костарив. На всём их крестном пути — от свичских верховий, через Львовскую, Харьковскую и Московскую Сухановскую тюрьмы — до изолятора в Свободном [3] Свободный — название станции на Транссибирской магистрали.
на Востоке у Благовещенска медиков зверски, садистски избивали. Их и убили бы давно, «не возясь» с «бандеровскими бандитами», но… не перевелись ещё добрые л ю д и на белом свете.
Предупреждённый профессором Эйхгорном, на защиту арестованных врачей встал Сергей Сергеевич Юдин. Словно эстафету здравого смысла во всей этой вакханалии злобной бессмыслицы принял после смерти великого этого хирурга Леон Абгарович Орбели. Вместе с ним начали войну за спасение спасителей — украинских врачей — Георгий Нестерович Сперанский и Вишневский Александр Александрович.
Только после смерти в 1954 году академика Юдина нам удалось заставить следователей МВД «перестать лгать и внести в следственные дела украинских врачей запись: «врачи». Озлобление апологетов системы было так велико, что схваченных в феврале 1950 года медиков они запретили именовать врачами, а только «членами бандеровской банды». И квалифицировали их роль в украинском освободительном движении как «карательную и палаческую» [4] Возвратясь к практике судов времён английского короля Якова II, описанной Рафаэлем Сабатини в романе «Одиссея капитана Блада».
.
Почему–то особую ненависть у гебистов во все годы «следствия» вызывали Залман Фишзон и Соломон Львович Ливнинский, ко всем «грехам» которого чекисты добавили и вовсе непростительную «вину» этого великолепного полевого хирурга — он оказался не только земляком, но даже одногодком и, самое страшное, другом детства «Самого» вождя Украинского национального движения Евгена Коновальца.
Перед кончиною своей в декабре 1954 года мама успела рассказать навестившему её в Басманной больнице Вишневскому — тогда главному хирургу Советской армии — о своём многолетнем коллеге Григории Дмитриевиче Пивне. Молодым врачом её же Петербургского приватного госпиталя Розенберга он прибыл на Русско—Японскую войну. И там стал великолепным хирургом и другом Николая Ниловича Бурденко.
Снова они встретились в Галиции во время Первой мировой войны — тогда доктор Пивень был главным хирургом госпиталя при 12–й Сибирской бригаде. Наконец, почти рядом работали они в тифозных лазаретах на Волыни — это уже на Гражданской…
В Манчжурии, в осаждённом Порт—Артуре начинали свои карьеры Евгений Поливняк и Микола Гуцало. Именно рассказ мамы, который я не сумею передать в подробностях — он был аттестацией медика о медиках; именно её рассказ–исповедь за несколько дней до смерти 4 декабря 1954 года глубоко задел очень осторожного и никогда до того с властями не конфликтовавшего «благополучного» академика Вишневского. За время нашего с ним краткого знакомства я увидел его, сперва удручённого тяжким маминым состоянием, — всё же она почиталась его учителем в мастерстве полевой хирургии и постоянно была предметом подражания и любви искренней, чего Александр Александрович никогда не скрывал. А теперь вот умирает она, друг, Великий Врач, Магистр ордена хирургов…
Рассказ о её коллегах — «бандеровских бандитах» — выслушал он настороженно–внимательно, в конце даже с возмущением из–за непризнания их подвига — врачебного, только врачебного! Но моё сообщение об их положении вот в эти самые дни содрало с него никак не идущую к нему маску «возмущённого» обывателя. Перед нами с мамой предстал, поднявшись во весь рост, оскорблённый случившимся «по его ведомству», как–никак, всё же Главный хирург самой–самой армии! От имени которой — а как иначе? — какая–то следовательско–судейская шпана творит «немыслимый произвол»!
Ждать, сложа руки, «благоприятных разрешений» я не хотел. Вспомнив любезное приглашение на нежданном фуршете заместителя председателя Верховного суда Аксёнова [5] «Суда Аксёнова». Утвердив документы о моей реабилитации, он сообщил о том мне на «личном приёме», устроив нечто вроде торжественного фуршета.
: «не чинясь, обращаться к нему в любое время», я побывал у него. Выслушав меня, он посоветовал обратиться напрямую к Руденко, — всё же Генеральный прокурор страны, последняя инстанция — выше нет. «Тем более память у него «прокурорская», и ваше имя забыть он не должен — ведь именно он, лично, опротестовал ваше дело и направил его нам. Попытайтесь. Ну, а приём у него организуем… Только сомневаюсь я в его содействии, в смелость его. Но попытайтесь, чтобы потом не терзаться самому».
Где–то в конце февраля 1955 года я был — «по моей просьбе» — приглашён к Руденко. Роман Андреевич встретил меня у «предбанника», проводил к креслу. Поздравил ещё раз с реабилитацией. Посетовал, что из–за занятости («не вы же один тогда выходили в мир!») не смог быть в Верховном суде на «приветствовании вас после всего»… Поинтересовался даже моими «жизненными планами и ходом учёбы» (а вот об учёбе откуда ему знать?). И сходу, не переставая «валять Ваньку», попросил по–дружески:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: