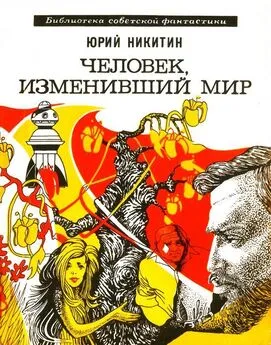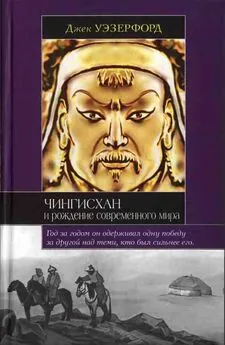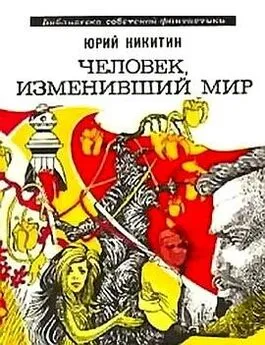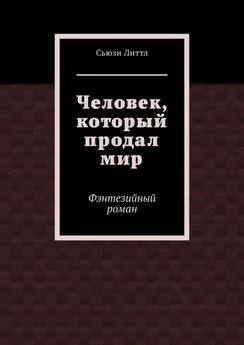Фрэнк Маклинн - Чингисхан. Человек, завоевавший мир
- Название:Чингисхан. Человек, завоевавший мир
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-095186-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фрэнк Маклинн - Чингисхан. Человек, завоевавший мир краткое содержание
Чингисхан. Человек, завоевавший мир - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Далее, как это не раз демонстрировала суперменская натура Чингиса, своим вторжением он подвергал испытанию силу духа цзиньцев. Чингисхан считал себя сыном Неба, и император Цзинь претендовал на мандат Небес, поэтому только война могла доказать, что подлинным и единственным держателем этого титула является Чингисхан; монгольская идеология утверждала веру в то, что все другие нации должны признать превосходство монголов [906] Joseph Fletcher, 'The Mongols: Ecological and Social Perspectives," Harvard Journal of Asiatic Studies 46 (1986) pp. 11–50 (at pp. 32–33); Grenard, Genghis pp. 111–112; H. Franke, From Tribal Chieftain pp. 17–18; Sechin Jachid, 'Traditional Mongol Attitudes and Values as Seen in the Secret History of the Mongols and the Altan Tobchi,' in Jagchid, Essays pp. 51–66.
. Вдобавок ко всему, возникали опасения, что цзиньцы, пренебрегавшие северными границами, вдруг обеспокоились, начали наращивать силы в этом регионе, перестраивать стены и крепости у северо-западных рубежей, возможно, намереваясь нанести удар по Монголии; эту информацию Чингисхан получил из надежного агентурного источника — от мусульманских купцов в Азии. Соответственно, Чингисхану ничего не оставалось, кроме как нанести упреждающий удар [907] Barthold, Turkestan pp. 393–396; Vladimirtsov, Genghis pp. 76–77.
.
Но подталкивали Чингисхана к войне и более основательные, глубинные причины — сугубо социально-экономического свойства. Он должен был гарантированно добиться того, чтобы его империя, построенная и державшаяся на богатствах и ресурсах, приобретенных захватническим путем, не взорвалась вследствие внутренних конфликтов. Цзиньцы раздражали и вызывали ненависть квотами и эмбарго на продажу излишков продукции скотоводства [908] Fletcher, 'The Mongols," loc. cit. pp. 32–33; Barfield, 'Inner Asia and the Cycles of Power in China's Imperial History," in Seaman and Marks, Rulers from the Steppe pp. 21–62 (at p. 25).
. Военные кампании порождали специфические проблемы для монгольской экономики. Почти безостановочные военные столкновения, не прекращавшиеся с 1196 по 1206 год, означали, что, в сущности, поголовье крупного рогатого скота съедалось, а не наращивалось. Чингисхан должен был начинать новые завоевания только для того, чтобы прокормить армию. В результате создавалась лихорадочная атмосфера «перманентной революции»: монгольское государство должно было решать замысловатую проблему поддержания жизнеспособности целого народа, перманентно вооруженного и пребывающего в состоянии войны — проблему, с которой еще не сталкивалось ни одно общество за всю историю человечества. Ни одна власть не выживет без денег, и самый распространенный способ их приобретения — налогообложение — не эффективен, если весь народ состоит из солдат. Если даже Чингис смог бы каким-то образом ввести всеобщую подать и набрать достаточно средств для содержания империи, то рано или поздно назрел бы беспощадный бунт. Втягивая все степные племена в войну не на жизнь, а на смерть с империей Цзинь, он отвлекал энергию потенциального восстания, направляя ее против китайцев [909] J. P. Marques, 'Sur la nature du nomadisme des steppes eurasiatiques," L'Homme 108 (1988) pp. 84–98.
. Он получал в руки два козыря. Если все боеспособные воины будут сражаться в Китае, то некому будет поднимать вооруженные восстания в самой Монголии. С другой стороны, все необходимые материальные ресурсы можно будет набрать грабежами, вымогательствами, штрафами, посредством Danegelds [910] «Датские деньги» — в X–XII веках ежегодный налог в Англии для уплаты дани скандинавским викингам. — Прим. авт .
— финансовой алчности, принесшей монголам недобрую славу прожорливых волков [911] Denis Sinor, 'The Greed of the Northern Barbarians," in Clark & Draghi, Aspects pp. 171–182.
. Подобно акуле (еще одна метафора), Монгольская империя должна была постоянно выискивать новую жертву.
Имеются убедительные свидетельства серьезных экономических затруднений, возникших в Монголии именно в те годы, когда Чингис входил во власть. Историки отмечают, что не вся добыча поступала в казну из-за коррупции, разворовывания, разбоя и других субъективных факторов «усушки имущества» [912] Gumilev, Imaginary Kingdom p. 177.
. Другие исследователи склонны видеть действительную проблему в климатических переменах — длительный засушливый период в степях — и даже в перенаселенности, пагубной для слабой экономики, основанной на пастушестве [913] Khazanov, Nomads and the Outside World pp. 235–236; Khazanov, 'Ecological Limitations of Nomadism in the Eurasian Steppes and their Social and Cultural Implications," Asian and African Studies 24 (1990) pp. 1–15.
.
Иными словами, по всем объективным и субъективным признакам, Чингисхан не мог не вторгнуться в китайскую Цзинь. Для новых приобретений уже не осталось кочевых племен и сообществ; все они были завоеваны. Это означало, что теперь надо было переключаться на оседлые народы, но организовать такие хищнические экспедиции и объединить разношерстные племена империи можно было только в условиях «супертрайбализма», супергосударства, и для финансирования всего этого грандиозного предприятия объективно возникала необходимость в нападении на Китай [914] Fletcher, 'The Mongols," loc. cit. p. 15.
. Прежде кочевые племена не изъявляли желания иметь над собой некую высшую власть, справедливо полагая, что вполне могут обойтись без централизации привычной торговли и товарного обмена с земледельческими сообществами. Завоевания Чингисхана сформировали политическую и административную структуру, позволявшую осуществить предприятие, которое он давно замыслил. Вторжениями в китайскую Цзинь Чингисхан переступал пределы бывших кочевников, остроумно названных одним историком «кандидатами в маньчжуры» [915] Barfield, Perilous Frontier pp. 164–186.
.
Возникает закономерный вопрос: почему цзиньцы не заметили грядущую опасность и вовремя не предприняли никаких мер? Ответы могут быть самые разные. Они не обратили внимания на процессы объединения в степях, потому что были заняты войной с империей Сун на юге Китая. Они были уверены, что в длительной межплеменной борьбе в Монголии победят найманы и Чингис потерпит поражение. Им была присуща уступчивость; на протяжении всей предыдущей истории Китаю удавалось сосуществовать с угрозой с севера. Они переоценили свои успехи в «переделывании» племен внутренней Монголии, которые действительно были в определенной мере китаизированы, и недооценили то, насколько монголы отличаются от этих племен [916] Using the famous bifurcation suggested by Claude Levi-Strauss, one scholar has differentiated between the 'raw' barbarians of Outer Mongolia and the 'cooked' tribes within the shadow of the Great Wall (Magnus Fiskesjo, 'On the "Raw" and "Cooked" Barbarians of Imperial China,' Inner Asia t (1999) pp. 139–168).
. В то же время их бессистемные попытки разрешать пограничные проблемы были неуклюжи и топорны. Сначала они умудрились оттолкнуть от себя племя джуин, этнически смешанный народ, живший у границ с цзиньцами, тангутами и онгутами. В результате их главный «жандарм» в Гоби, онгутский вождь Алахуш-дигитхури переметнулся к Чингисхану. Затем цзиньцы еще больше обострили отношения с соседями, убив Алахуша. Устранение вождя ничего не решило, на его место пришел племянник, формально признавший господство монголов [917] Paul D. Buell, 'The Role of the Sino-Mongolian Frontier Zone in the Rise of Chingis Qan,' in Schwarz, Studies on Mongolia pp. 63–76 (esp. pp. 63–68).
. Цзиньцы продолжали, как и во время нападения Чингисхана на Си Ся и тангутов, обратившихся к ним за помощью, придерживаться политики «посылать к черту и тех и других».
Интервал:
Закладка:
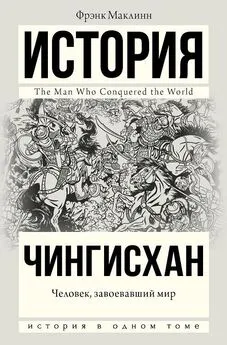


![Ксения Чепикова - Человек, научивший мир читать [История Великой информационной революции]](/books/1059757/kseniya-chepikova-chelovek-nauchivshij-mir-chitat-ist.webp)