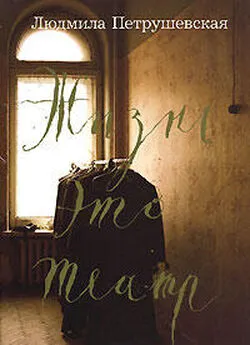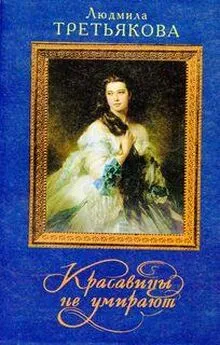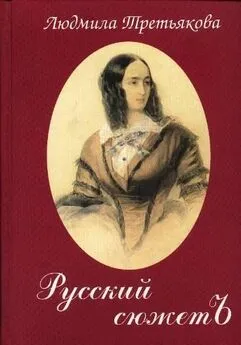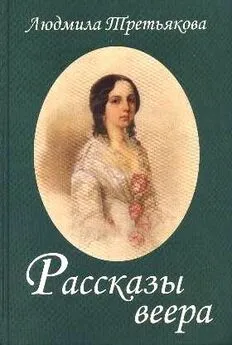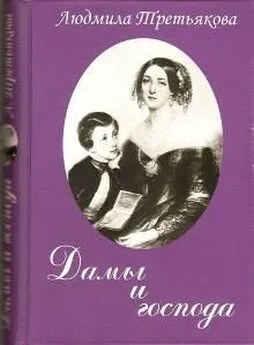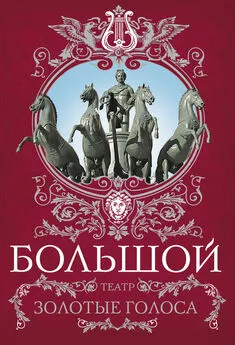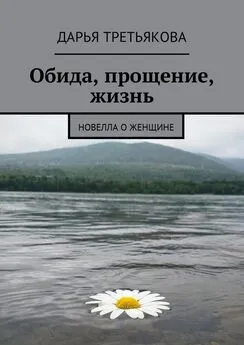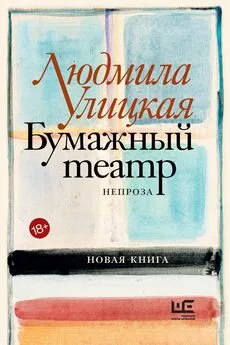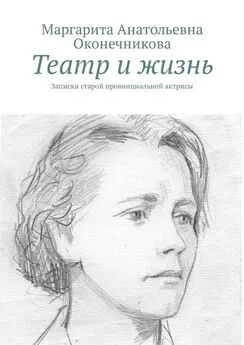Людмила Третьякова - Театр для крепостной актрисы
- Название:Театр для крепостной актрисы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Третьякова - Театр для крепостной актрисы краткое содержание
Тема всех ее книг одна – любовь, поскольку, по мнению автора, «…сами по себе не отдавая в этом отчета, мы только и живем любовью: счастливой и несчастной, супружеской, родительской и странной, невесть откуда взявшейся, - к тому человеку, кто совсем недавно был чужим и незнакомым». Любовь, романы, жизнь выдающихся женщин прошлого - знатных и не очень, но оставивших свой след в истории, едва восстановимый теперь по каким-то личным архивам, записочкам, мемуарам, свидетельствам…
"Театр для крепостной актрисы рассказывает о жизни Полины Жемчуговой, в замужестве - графини Шереметьевой. Повесть из сборника "Мои старинные подруги".
Театр для крепостной актрисы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мне чудится, возле обители старой
Витает любимая тень,
К ней сердцем стремлюсь,
Но она ускользает,
Печально венчая мой день...
Все в доме видели, что граф ищет встречи с этой тенью, часами просиживая в комнате, где Параша родила сына, где умерла. Трогать здесь что-либо было строго запрещено. В этих стенах со множеством икон граф молился. Вынесли только кровать. На том месте, где она стояла, появилась надпись на бронзовой пластинке, адресованная сыну: «Сие место было обитанием в Бозе покоющейся матери твоей, а моей много почитаемой и обожаемой супруги, графини Прасковьи Ивановны Шереметевой, рожденной Ковалевской... Самый же покой сей есть место, где почтенная мать твоя разрешилась от бремени тобою... Отец твой вкушал все изобилия блага земного, но, лишась матери твоей, потерял с нею покой и благополучие... Если пожелаешь узнать подробности, то найдешь пространное описание здесь в особом ящике».
Понимая, что сын еще очень мал, а ему самому едва ли удастся увидеть его взрослым и рассказать о матери и что шереметевская родня постарается поскорее забыть «графиню-крестьянку», Николай Петрович, помимо собственноручных записей об их с Парашей истории, собирал и снабжал сопроводительными надписями немногие оставшиеся после нее вещи. Ведь все ценное, вплоть до обручального кольца, было ею роздано.
Но в Фонтанном доме долго сохранялись и дожили до наших дней арфа Прасковьи Ивановны, клавесин, зеркало. Ее вышивка шелком была помещена под стекло, вделана в раму и снабжена собственноручной надписью графа: «Труды жены моей Прасковьи Ивановны Шереметевой».
Он заказал сделать по памяти портрет жены, лежащей в гробу. Из пряди волос, срезанной Татьяной Шлыковой у покойной, Николай Петрович повелел свить жгутик и «замуровать» его в перстень. С ним Шереметев никогда не расставался. Под стеклянным колпаком в кабинете стоял засохший букетик нарциссов с гроба Параши.
...Немного забыться позволял Николаю Петровичу лишь сын. Граф пишет А.Ф.Малиновскому, одному из свидетелей «тайного венчания», о единственной радости — Митеньке. Малышу чуть больше года, а отец вот что придумал: «Нарядил я его в мальтийский мундир и вчерась, не помешкав, новый кавалер обновил свой мундир — весь замочил; тем все и кончилось; нужно другой шить. Истинно, это пресмышленый кавалер; жалею, что вы его не видите». От него мы узнаём о непоседливости ребенка: «И двух минут остаться не может на одном месте в одинаковом положении».
То, что состояние графа было печально, видно и из следующего факта. В июле 1803 года, через четыре месяца после смерти Параши, в Александро-Невскую лавру был доставлен, как писал граф, «надгробный камень, который я для себя приготовил». На медной вызолоченной доске оставалось только выбить цифры.
После смерти Параши граф прожил еще шесть лет. Но он сделался вял, скучен, сторонился светской жизни, лишь в силу своего придворного звания бывая на званых вечерах в Зимнем.
Однажды ему намекнули, что прическа его старомодна, «павловскую косицу» уже никто не носит. Граф велел парикмахеру Руссо обрезать ее, но так, чтобы он этого не заметил. Новшества, события большие и малые, которыми жило общество, оставляли его равнодушным. Куда чаще Шереметева видели в Английском магазине. Он приходил туда не столько за покупками, сколько побеседовать, посидеть за рюмкой с деловыми людьми, которым всегда отдавал предпочтение перед вельможной публикой.
Дом на Фонтанке жил, однако, по строгому распорядку, заведенному графом. Как писали, «под влиянием свежей и тяжкой утраты, а также ввиду недоброжелательных слухов, сильно смущавших разбитого горем отца», ради Дмитрия были приняты «чрезвычайные меры предосторожности».
При маленьком наследнике состоял особый, лично отобранный графом штат прислуги. Николай Петрович приставил к сыну для «наблюдения за сбережением здоровья» и для «всякого охранения» не медиков — теперь он им мало доверял, — а обыкновенного канцеляриста, человека, знакомого с юности и стократно проверенного. Тот отвечал за состояние детских помещений и обязан был безотлучно находиться при мальчике. В помощь ему приставили громадной физической силы дворового Петра Соловьева.
Особая система предосторожностей исключала появление в комнатах Мити постороннего человека. У дверей, ведущих в спальню, постоянно находились двое сторожей. Но и они при случае не смогли бы впустить чужака: дверь запиралась с внутренней стороны. Открывали ее только после предварительного окрика: кто пришел, имеет ли разрешение. Под последним подразумевался так называемый «билет» — пропуск с печатью и росписью графа.
Ночных дозорных проверяли каждые два часа — не спят ли. Утром и вечером к Шереметеву шли с докладом, в котором полагалось сообщать каждую мелочь. По особому предписанию надо было действовать в случае болезни ребенка: граф приказал извещать его немедленно, в любое время суток, невзирая ни на какие обстоятельства.
Конечно, главная надежда у Николая Петровича была на Татьяну Шлыкову. Ей в помощь приставили человека, тоже очень проверенного, некого Петра Герасимовича, подлекаря.
Все эти назначения и предписания были Николаем Петровичем даны в домовую канцелярию 25 февраля, то есть через два дня по кончине жены. Старания уберечь Митю заставили графа возвращаться хоть на время из пучины скорби.
Между тем Шереметев прекрасно понимал, что упадок сил и духа тормозит то дело, которое они с женой затеяли. Приют для бедных и убогих — сколько длинных вечеров было отдано обсуждению всех деталей, относящихся к будущему Странноприимному дому!
Граф и Параша решили, что под его крышей на шереметев- ском иждивении будут содержаться до ста человек «всякого звания неимущих и увечных» и больница на пятьдесят человек.
Строительство приюта-дворца и обеспечение его дальнейшей жизни потребовали огромных средств. Уже на первых порах стало ясно, что реальная стоимость задуманного значительно превысит смету. Шереметев даже вынужден был продать часть недвижимости в Москве. Он не хотел трогать основной капитал, проценты с которого определены были в пользу Странноприимного дома. Ему же «навечно и неотъемлемо» передавались и доходы Шереметевых в Тверской губернии.
...Венчание, ожидание прибавления в семействе, потом беда, сбившая Николая Петровича с ног, затормозили возведение Странноприимного дома. Но то, что он затеял, неразрывно было связано в его сознании с Парашей. Это заставляло Николая Петровича сначала через силу, а потом все с большей охотой входить во все маленькие и большие проблемы строительства. Он даже кое-что проектировал сам, рисовал эскизы интерьеров, то хвалил, то ругал архитекторов и подрядчиков, волновался, негодовал, расстраивался, радовался.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: