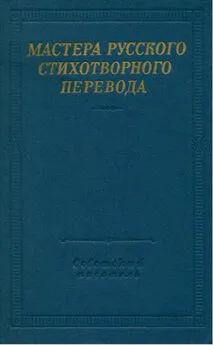Рафаэль Альберти - Война начиналась в Испании
- Название:Война начиналась в Испании
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Радуга
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Рафаэль Альберти - Война начиналась в Испании краткое содержание
Война начиналась в Испании - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сеньор Энрик развязывает узел с бельем. Появляются яркие летние платья, они пробуждают воспоминания о Бадалоне [78] Город в Каталонии на берегу моря.
, сумерках на Тибидабо [79] Гора в Барселоне, с которой открывается красивый вид на город.
, салатах, пасхальных вечерах с розами и гвоздиками, похожими на застывшие капли крови, вечернем ветерке, развевающем тисненые юбки, и сентябрьском дождике, ласково падающем на светло-зеленую кофточку, о знакомых мелодиях праздника святой Риты, о ресторане, украшенном сосновыми ветками, где подают фаршированного цыпленка, приготовленного на жаровне.
Но все перебивает запах нафталина, дыхание смерти. И опадают лепестки с пасхальных роз, исчезает солоноватый летний воздух и цветы на Пласа-Нова. И глаза Эсперансы, в которых отражаются засверкавшие было глаза сеньора Энрика, вспыхивают сомнением, тускнеют, и из них выкатываются сладкие слезы, слезы не о тех, кого нет, a о тех, кто остался.
Она держит тонкую шерстяную небесно-голубую шаль, пальцы перебирают кисти, ища воспоминания о холоде, затерявшемся где-то в глубине шкафа среди нафталиновых шариков. Сейчас она ее накидывает, примеривая. Ей кажется, что она накинула на плечи жизнь другой женщины, ее любовь, другую историю, которую она смутно угадывает, но не знает.
Сеньор Энрик смотрит на нее и улыбается. И в его улыбке отражаются зимние вечера около жаровни, усталость после хорошо сделанной работы и немножко восхищения. Он говорит, что Эсперанса похожа на нее, что в молодости… Но Эсперанса не слушает его и не смотрит. Ей кажется, что шаль превращается в неизвестно откуда появляющуюся руку Жорди, которая обнимает ее и ведет осторожно между мраморными столиками и публикой в казино.
Сеньор Энрик раздевается первым и помогает ей распустить прическу. Волосы кольцами струятся по шерстяной шали, путаясь с выдернутыми нитками, переговариваются, живут своей жизнью, тоскуя по летнему ветерку и влажным поцелуям воскресной ночью.
Старый мужчина смотрит на нее смущенно. Он кладет руку ей на грудь. И теперь не спрячешься за горькие воспоминания или сладкую грусть: все слишком реально. Эсперанса это понимает. Она не хочет быть ни с кем, не хочет чужих платьев, бессильной тоски. Резким движением она сбрасывает шаль, словно сбрасывает с плеч тень другой женщины, и бежит по коридору.
Двери скрывают незнакомую жизнь. Комната, деревянная кровать с кретоновым покрывалом, шкаф, открытый, словно пустая могила, циновка, истонченная вздохами и поцелуями.
Она садится за туалетный столик, снова собирает волосы в прическу. На стеклянной поверхности столика — расчески, флаконы. С распущенными волосами она чувствует себя обнаженной. Жорди нравилось смотреть, как струятся ее волосы по голым плечам. Каждое утро она садилась за туалетный столик и перламутровой щеткой расчесывала локоны. Жорди, лежа в постели, смотрел на нее, потом подкрадывался, пристраивался сзади, и она в зеркале видела его улыбку, и время останавливалось, когда он наклонялся поцеловать ее затылок.
Руки Эсперансы вертят перламутровую ручку щетки. Страх рассыпался на тысячи кусочков за закрытыми окнами, и побежденный ноябрь превратился в воображаемый сладкий май. Она уже не плачет. Она больше никогда не заплачет. Время слез разлетелось, как прическа. На улицах нет победы, голос Жорди возвращается, наполняет стены, становится сильным и звонким. Нет больше поражения, возрождается гордость, и кирпичи один за другим возвращаются на свои места, восстанавливая дома; их заполняют дети, которые не играют в войну, и черный цвет исчезает из женских платьев.
Жорди стоит в дверях. Он смотрит на нее, и в его глазах нет ни равнин Кастилии, ни черных штыков, распарывающих животы. В его глазах, отраженных в зеркале, Эсперанса видит надежду, видит будущее и доброе море, играющее камнями.
И Эсперанса/Роза расчесывает волосы и смотрит через зеркало туалетного столика на Жорди/Энрика, который ей улыбается уже без дрожи и без слез с порога спальни.
1975
Алонсо Самора Висенте
На улице Феррас
Пер. В. Федоров
Нет, знаете ли, нет. Мне это нетрудно, ведь я уже столько раз рассказывала свою историю! Всем, кого это интересовало. Мне уже кажется, будто я беспрерывно повторяю ее про себя, даже во сне. Как будто не по своей воле. Разговариваю сама с собой, и все об одном и том же. Так что, даже если вы уйдете восвояси, я все равно буду говорить. Нет, прошу вас, не подгоняйте меня. Вы хотите только, чтобы я начала, это понятно, стоит начать — потом уж деваться некуда, придется и заканчивать, и вы, получив свое, преспокойно пойдете по своим делам, а мне придется рассказывать все сначала кому-нибудь другому, не сегодня, так завтра или в другой какой день… Ах, друг мой, добрая вы душа, спрашиваете о моем сыне. Да его тут все знают, многие даже лучше, чем я. Ребятишки, что под вечер играют на улице в бой быков, гангстеров или еще во что-нибудь, и те, как увидят меня, так спрашивают: «Ну что, сеньора Долорес, ваш сын сегодня, наверное, уже дома?» И хохочут, их это забавляет. А я поднимаюсь по крутой длинной и темной лестнице, где мне знакома каждая дверь, я могу по запаху из кухни сказать, на каком я этаже, по звукам радио догадываюсь, кто там живет, на шестом всегда плачут девчонки, на седьмом справа донья Каталина — вдова, пенсионерка — вечно брюзжит на своих жильцов, и так на любом этаже, я всех их знаю; поднимаюсь все выше и выше, иногда постою в коридоре: а вдруг он дома, задремал, дожидаясь меня, это мое плетеное кресло такое удобное, его подарили мне в клубе, когда меняли мебель на террасе, ну да, в том самом клубе, куда я хожу убираться, они так добры ко мне. Я уже говорила с ними, не подыщут ли они какую-нибудь работу для моего сына. А еще я ему вышила цветами подушечки для ног, такие удобные, мягкие… Сколько ему лет? Ну, сами посчитайте. Родился он в тридцать втором, сейчас в самом расцвете лет. Но, сами понимаете, рос, бедняжка, без отца. Ах, и вспоминать об этом не хочется, одно слово — безотцовщина. Трудные были времена, что поделаешь. Отец его был из тех, кто любую уговорит. Плут из плутов, скажу я вам. Но такой ласковый, такой душевный, такой… В общем, другого такого не сыщешь… Учился в Мадриде, в наш городишко приезжал на лето. Не знаю, на кого он там учился, я об этом никогда не допытывалась. Помню только, что я ждала июня, Рождества и Святой недели, когда он обычно приезжал, и ни одна душа не знала об этом, только он да я, он никогда мне не писал, если бы его родители узнали, был бы страшный скандал… Потом так оно и случилось, кто-то им донес, что мы встречались в одном домике, в Пинатаре, на старой дороге, — вы знаете, где это? Никогда не бывали в Эль-Салобрале? Красивое место. С порога домика видать всю сьерру, на Рождество она белая, летом синяя, и он (я всегда говорю «он» — вы понимаете?) — я всегда остерегалась называть его имя, чтоб не дознались его родители, избави бог, — он не хотел, ни за что на свете не хотел огласки, и ясно, что мне из-за этого труднее было встретиться с ним. Да ладно, все это давным-давно прошло, и вам эту историю кто-нибудь уже рассказал, да-да, не возражайте. Я по лицу вашему вижу, что вам это все известно. Ну да, конечно, что нам еще оставалось, кроме как пожениться и уехать куда-нибудь, потому что в нашем городке, в Эль-Салобрале, меня стали чураться, даже сложили про меня куплеты, и то, и другое, и пятое, и десятое, а отец мой, сторож муниципалитета, нравом был крут. А уж его родители и слышать обо мне не хотели. Я, дескать, погубила их сына. Опоила каким-то зельем. Глупости! Просто они были важные господа, чего еще от них было ждать, верно? Очень уж строгие, неуступчивые, они ему такого простить не могли. Твердили все одно и то же: «С дочерью сторожа — и тебе не стыдно? Где это видано, чтоб наше имя трепали все кому не лень, на площади, в таверне. Несчастный. Дурак дураком». Так и долбили его по темени, думали добиться своего. А нам это было нипочем. В домике пахло травами и листьями, поджаренными горячим августовским солнцем, вы представляете? Помню, в день святого Иакова в деревне был праздник, кругом — ни души, все жители ушли на гулянье, там была процессия, а потом — фейерверк, танцы, бег в мешках, игра с плащом и другие забавы, а у нас в домике жарко, дверь открыта, доносится шум праздника, нет-нет да пролетит ласточка. И мы вместе, рядом. Как об этом расскажешь его матери, она всегда такая нарядная, у нее острые плечи, а во рту полно золотых зубов. Не буду рассказывать вам о нашей свадьбе. Его мать — заметьте, я никогда не называю ее свекровью, родителей его всегда почитала, — так вот эта сеньора, когда немногие, кто был в церкви, подходили и поздравляли меня, как полагается в таком случае, спросила только, не понижая голоса, не стыдно ли мне в церкви с таким пузом. Глупо это было с ее стороны — посудите сами, чего мне стыдиться, да не очень еще было и заметно, а просто злилась она, вот в чем дело: как это так, ее сын женился на дочери простого сторожа, у которого ни кола ни двора. Дело обыкновенное. Мой отец? Отец и вовсе не пришел. На венчанье то есть. Сказал, что не хочет учинять скандал, сделав то, что следовало бы. Веселенькая свадьба, верно? Даже священник — и тот, как видно, побаивался его матери: не стал давать нам наставлений, как это делается при венчании, что, мол, дети мои, брак вещь серьезная, жена во всем должна слушаться мужа, не вмешиваться в его дела, а появятся дети, так надо их крестить, как положено. Ничего такого. Ясно, он тоже ее боялся. Поженились мы седьмого марта, в день святого Фомы, священник только о нем и говорил, этот святой, кажется, написал много книг. Жених-то был студентом, я, вроде, уже говорила вам об этом, вот так священник и вышел из положения. А о нас — ни слова. И еще помню, что, когда мы вышли из церкви, все куда-то подевались. Я видела не раз, какое столпотворение начиналось на площади после выхода молодых из церкви, все спешили к ним, невесте говорили комплименты, над женихом подшучивали, а тут… Только в церкви какие-то женщины поглядывали на нас из-за колонн и шушукались, а мужчины — так те хохотали не таясь. А как вышли на площадь, возле нас не осталось ни души, но я-то знала, что на нас смотрят из-за занавесок и полуприкрытых ставен и окон. В центре площади мы даже остановились на берегу бассейна, будто чего-то испугались, и не знали, что делать дальше, а ведь мы уже были мужем и женой. Разве могли мы подумать, что все это кончится так печально. Ах да, у водоема стоял Сегундо с улицы Ларга, поил своих мулов, он улыбнулся нам и сказал: «Доброй вам жизни, молодые, не робейте!» Я так была ему благодарна. Потом его убили, как и многих других. А тогда шел дождь, лил не переставая, и мы стояли вдвоем посреди площади. Помнится, стрелки часов на башне не двигались. Остановились на пяти. Да, сеньор, скверно было у меня на душе. Но все прошло, как только он положил руку мне на плечо и сказал: пойдем. Собрали мы кое-какие пожитки и, дожидаясь автобуса, зашли в таверну, где вечно толпился народ — а как же иначе, если никто не работал, то одни бастуют, то другие, — и там дожидались рейсового автобуса из Рекене, у него вся крыша была уставлена мешками кукурузы и клетками с курами, которые отчаянно кудахтали, бедняжки, видно, их укачало. Больше ничего не помню — должно быть, из-за того, что шел дождь…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: