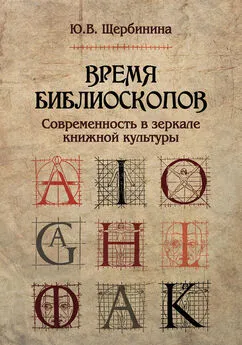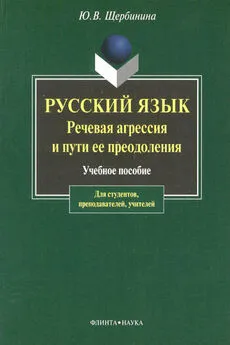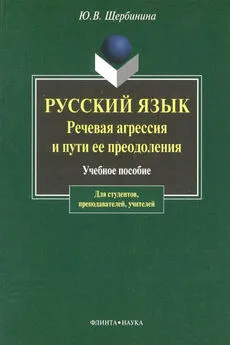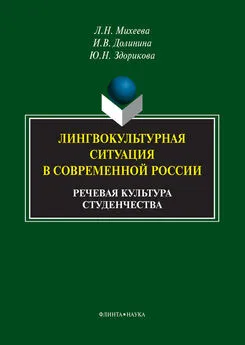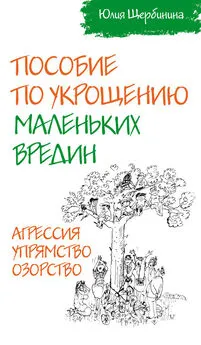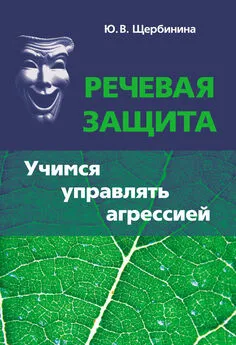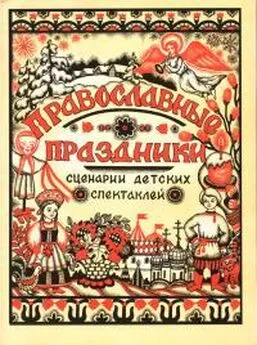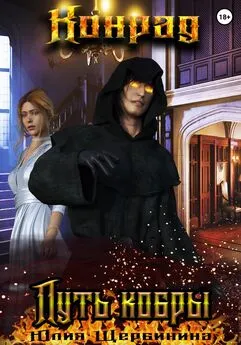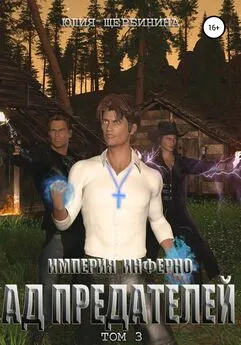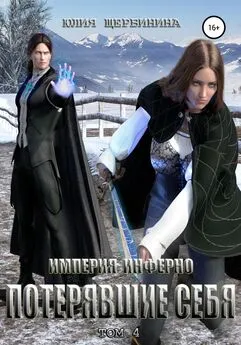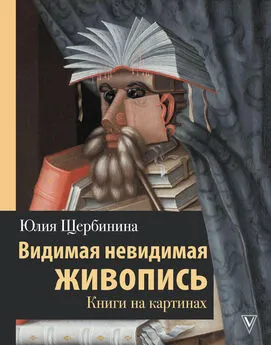Юлия Щербинина - Время библиоскопов. Современность в зеркале книжной культуры
- Название:Время библиоскопов. Современность в зеркале книжной культуры
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Неолит ООО
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-00091-196-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юлия Щербинина - Время библиоскопов. Современность в зеркале книжной культуры краткое содержание
Как строятся взаимоотношения писателей с издателями и читателями? Что такое партворки и книгли? Как связаны чтение, еда и деторождение? Какие мифы бытуют в современной литературной критике?
Серьёзное полемическое и, одновременно, увлекательное исследование взаимосвязей современной книжной культуры и литературной среды с актуальными культурными процессами и тенденциями общественной жизни.
Время библиоскопов. Современность в зеркале книжной культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В ситуации эхомыслия и эхоречия полемика замещается механическим отзеркаливанием чужих мнений, научность вытесняется стилистическими изысками, информативность уничтожается оценочными штампами, применимыми к любому предмету речи. Можно сформулировать и по-другому: вместо полемики – проектность, вместо научности – форматность, вместо информативности – трендовость. Таким образом, произведение рассматривается как проект определённого формата в рамках сложившегося тренда.
При таких условиях все жалобы на утрату авторитета, статуса, лидерства литературной критики напрасны и бесполезны. И покуда критик пыжится в тщетной попытке завоевать внимание читателя, последний, беспечно отмахнувшись ручонкой, как Карлсон от ноющего Малыша, увлечёно следует «пошаговым инструкциям», написанным для него «известными Людьми» с большой буквы.
Вспомним греческую мифологию. Слово «эхо» отсылает к имени древнегреческой нимфы, которая в наказание за болтливость могла лишь повторять окончания слов. Логика мифа сколь проста, столь же универсальна. Эхо-текст не только орудие борьбы за публичность, но и расплата за пустомыслие и пустословие. Объявляем минуту молчания?
Критик как мифотворец
Современный мир, если рассматривать его в плане коммуникаций, похож на эхо-камеру – заглушённое помещение с хорошей отражающей способностью для создания акустических эффектов. Коммуникативные эффекты неотделимы от социокультурных мифов. Во все времена критики творят мифы как о писателях, так и о самих себе. «Литературная коммуникация предполагает взаимную мифологию», – верно заметил французский социолог Робер Эскарпи. Критик – мифотворец и, одновременно, мифолог: творец мифа и его же дешифратор. Например, критика позапрошлого столетия подарила нам мифы о Пушкине и Белинском.
При этом стоит признать, что мифология русской литературной критики во многом обусловлена её культурно-исторической спецификой: практически с самого начала она, по сути, была философской эстетикой (или эстетической философией) – то есть носила «окололитературный» характер. В нынешних условиях, уже в системе постэстетики и в формате эхо-текстов критика творит новую мифологию. Условно в ней можно выделить три блока: мифы, связанные непосредственно с литературой, связанные с фигурой критика и связанные с критическим высказыванием.
Так, в первой группе оказывается, например, миф сепаратистский, согласно которому литературу якобы можно и нужно рассортировать по форматам, жанрам, направлениям, а писателей – делить на «культовых» и «мейнстримовых», «интеллектуалов и «беллетристов», etc. С этим мифом связана также иллюзия многих критиков, будто избыточное и навязчивое упоминание писательских имён создаёт эффект глубокого анализа. Однако в результате создаются стройные классификации, но выхолащиваются смыслы. Для маркетинга такой подход адекватен, а для анализа губителен.
Другой миф – жанрово-методологический: нынешняя критика претендует то ли на открытие, то ли на изобретение новых жанровых форм и художественных методов в литературе.
Наиболее яркий пример – «новый реализм». Аналогичным мифом, порождённым критикой XIX века, была идея бессознательного и бесцельного «чистого искусства». В отсутствие полноценной коммуникации участников современного литпроцесса «новый реализм» не получил серьёзного теоретического обоснования, исказился во множестве субъективных трактовок, сделался термином-штампом с ярко выраженным эмоциональным акцентом и начал произвольно применяться к абсолютно разным произведениям. Иначе говоря, дискуссии о «новом реализме» выродились в эхо-текст.
Великого критика должны отличать не только универсальные знания, но и всеобъемлющая доброжелательность, притом основанная не на равнодушии, которое делает людей терпимыми к тому, до чего им нет дела, а на активной любви к разнообразию. Он должен быть психологом и физиологом, чтобы понимать связь первоэлементов литературы с мозгом и телом человека, и он должен быть философом, так как философия научит его спокойствию и беспристрастности и заставит помнить, что всё человеческое – преходяще.
Сомерсет Моэм «Подводя итоги», 1938Параллельно появились всякие квази-, турбо-, гипер-, фото-, пост- и прочие реализмы – так единичный выкрик разбивается эхом на мириады звуковых осколков. На этом, однако, энергия данного мифа не иссякла. Критика наплодила кучу других псевдонаименований: роман-конструктор, роман-аттракцион, роман-квест, роман-сон, роман-пунктир, роман-путеводитель, роман-селфи, роман-болеро, роман-возмездие, комикс-поэма, гей-роман, квир-литература… Фактически это эхо-термины, понятия-пустышки, применимые к чему угодно. Например, «аттракционом» называют не имеющие между собой ровно никакого сходства произведения Владимира Сорокина, Сергея Носова, Олега Радзинского.
Литературное пространство искусственно раздробилось на множество псевдолокусов, не подлежащих уже никакому критическому анализу.
Следующий миф – премиальный: дескать, хорошая литература – непременно та, которую награждают премиями. Последствие – искажение реальной картины литературного процесса: на самом деле есть талантливые писатели, не имеющие значимых премий и, напротив, слабые авторы, увенчанные лаврами. Присуждение литературной премии произведению не является гарантией его эстетической ценности. Литературные премии являются не показателем социального признания, а средством управления литпроцессом.
Противоположный этому миф, бытующий в пространстве эхо-текстов, похож на заклятье: «книга плохо продаётся». Похожая ритуальная фраза: «автор теряет популярность». Выступая экспертами чуть ли не по всем, в том числе и по коммерческим вопросам (гл. 21), нынешние критики прогнозируют книгам не только читательскую судьбу, но и торговый успех. Их слова послушно повторяют издатели, редакторы, журналисты, продавцы книжных магазинов – эхо-мнение разносится по всем окололитературным окрестностям.
Возможен и обратный вариант: кто-то из редакторов первым произносит фразу-заклятье, а дальше её дружно подхватывают критики. Хотя до сих пор никто не вывел сколько-нибудь точных критериев «хороших» книгопродаж, все руководствуются лишь самым общим: чем больше – тем лучше.
Ещё один миф – конспирологический: уверенность критиков (а с их подачи и многих читателей) в наличии каких-то «тайных» причин и скрытых механизмов того или иного литературного факта, феномена, события. Например, очень популярно гадать, за кого из писателей вкалывают литературные негры и в чьих произведениях присутствует скрытая реклама (продакт-плейсмент).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: