Дмитрий Быков - Иностранная литература: тайны и демоны
- Название:Иностранная литература: тайны и демоны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ (БЕЗ ПОДПИСКИ)
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-121796-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Быков - Иностранная литература: тайны и демоны краткое содержание
В Лектории «Прямая речь» каждый день выступают выдающиеся ученые, писатели, актеры и популяризаторы науки. Их оценки и мнения часто не совпадают с устоявшейся точкой зрения – идеи, мысли и открытия рождаются прямо на глазах слушателей.
Вот уже десять лет визитная карточка «Прямой речи» – лекции Дмитрия Быкова по литературе. Быков приучает обращаться к знакомым текстам за советом и утешением, искать и находить в них ответы на вызовы нового дня. Его лекции – всегда события. Теперь они есть и в формате книги.
«Иностранная литература: тайны и демоны» – третья книга лекций Дмитрия Быкова. Уильям Шекспир, Чарльз Диккенс, Оскар Уайльд, Редьярд Киплинг, Артур Конан Дойл, Ги де Мопассан, Эрих Мария Ремарк, Агата Кристи, Джоан Роулинг, Стивен Кинг…
Иностранная литература: тайны и демоны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
После того как вышел сборник эссе Кирилла Кобрина о Холмсе и Ватсоне [42] См.: Кобрин К . Шерлок Холмс и рождение современности: Эссе. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2015.
с подробным изучением позднесоветского викторианства, как Кобрин называет брежневский период, очень велик соблазн вывести Холмса из викторианской традиции. Но корни Конан Дойла отнюдь не в пресловутой викторианской эпохе. Попытаемся же проследить, где его настоящие корни, и начнем с двух наиболее красноречивых цитат.
Цитата первая.
«Кому это принадлежит?»
«Тому, кто ушел».
«Кому это будет принадлежать?»
«Тому, кто придет».
«В каком месяце это было?»
«В шестом, начиная с первого».
«Где было солнце?»
«Над дубом».
«Где была тень?»
«Под вязом».
«Сколько надо сделать шагов?»
«На север – десять и десять, на восток – пять и пять, на юг – два и два, на запад – один и один, и потом вниз».
«Что мы отдадим за это?»
«Все, что у нас есть».
«Во имя чего отдадим мы это?»
«Во имя долга» [43] Перевод Д. Лившиц.
.
Это надо читать замогильным голосом, голосом поздней Раневской, голосом, которым разговаривала ее странная мисс Сэвидж в одноименном спектакле Театра имени Моссовета. И конечно, у любого сколько-нибудь начитанного филолога немедленно всплывет совершенно отчетливая ассоциация, и эта ассоциация будет не с прозой и не с детективом, а с Метерлинком – с циклом «Двенадцать песен»:
У первой двери (дитя, мне страшно), у первой двери пламя задрожало.
У второй двери (дитя, мне страшно), у второй двери пламя зарыдало.
У третьей двери (дитя, мне страшно), у третьей двери пламя умерло.
А если он возвратится, что мне ему сказать?
Скажи, что я и до смерти его продолжала ждать.
Эти абсолютно загадочные, не имеющие рационального объяснения строки Метерлинка привязывают Конан Дойла к французскому и вообще к европейскому символизму гораздо глубже, нежели к британской рациональной традиции. И уж если мы говорим о среде и атмосфере рассказов Конан Дойла, приходится вспомнить прежде всего Тютчева, которого Конан Дойл, конечно, не читал:
О чем ты воешь, ветр ночной?
О чем так сетуешь безумно?..
Что значит странный голос твой,
То глухо жалобный, то шумно?
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке —
И роешь, и взрываешь в нем
Порой неистовые звуки!..
О! страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди,
Он с беспредельным жаждет слиться!..
О! бурь заснувших не буди —
Под ними хаос шевелится!.. [44] «О чем ты воешь, ветр ночной?..» (1836).
Это очень близко Конан Дойлу из-за двух волшебных строчек: «Понятным сердцу языком / Твердишь о непонятной муке». Дело в том, что Холмс раскрывает каждую тайну только для того, чтобы упереться в тайну нераскрываемую; в этом и заключается, собственно говоря, истина.
Много раз приходилось мне говорить о том, что в хорошем детективе герой ищет не преступника (потому что автор знает, кто преступник), а Бога или другую иррациональную сущность, иногда гораздо более страшную. И в этом поразительное отличие всех текстов про Холмса и Ватсона от прочих детективов, текстов, которые так прижились в России. У нас они более популярны, чем в Британии. Любой российский читатель с ходу скажет вам, сколько было повестей о Холмсе, и перечислит все четыре повести, включая сравнительно малоизвестную «Долину страха», тогда как далеко не каждый английский школьник их вспомнит. Каждый российский школьник знает, что рассказов о Шерлоке Холмсе было 56, что последний сборник вышел в 1927 году и назывался «Архив Холмса», а предпоследний – в 1917-м. И уж конечно, каждый российский школьник скажет вам, сколько у Конан Дойла было любимых рассказов, потому что это число для России сакрально, – их было 12. Мы знаем даже, какой рассказ он ставил на первое место – «Скандал в Богемии», знаем, какой на второе, – «Союз рыжих» и какой на третье – естественно, «Пеструю ленту».
Борис Акунин на нашей последней публичной встрече в Лондоне высказал удивительно точную мысль: Агату Кристи читать неинтересно. У нее и убивают не страшно, не жестоко, а главное, убивают всегда из-за каких-то корыстных мотивов – из-за обязательного завещания старого дядюшки. Кому в наше время нужен старый дядюшка и кого может взволновать его завещание? Все это так прагматично! Эркюль Пуаро никогда не сравнится с Шерлоком Холмсом именно потому, что Эркюль Пуаро имеет дело с абсолютно рациональными вещами, заставляя напрягаться серые клеточки своего мозга. Главная же особенность рассказов Конан Дойла в том, что они не ведут нас к рациональным выводам.
Почему-то принято считать, что викторианская эпоха – это эпоха рациональная. Ничего подобного! Вспомним хотя бы Джека-потрошителя, которого так и не нашли. Кстати, прототип Шерлока Холмса – доктор Джозеф Белл – был одним из консультантов полиции после того, как появился четвертый труп. Именно Белл навел полицию на мысль о том, что работает серийный маньяк, – он нашел основные черты почерка Джека-потрошителя. Белл был непосредственным начальником Конан Дойла, и его отличали все холмсовские черты: непременная трубка, кокаин, любовь к взрывам, любовь ко всяким экспериментам с отравляющими газами и, разумеется, орлиный нос. Правда, Белл не играл на скрипке.
Викторианский век – это век загадок, не имеющих разгадки. Мы никогда не узнаем – и никто не узнает, – с помощью какого вещества стивенсоновский Джекил превращался в Хайда и возможно ли это вообще. Мы никогда не узнаем таинственной разгадки Эдвина Друда, и именно поэтому это лучший роман Диккенса. Викторианский век – это век туманный, это век, где все теряется. В рассказе «Исчезновение леди Фрэнсис Карфэкс» (1911) Ватсон говорит о своих поисках: «Наконец-то контуры начали вырисовываться – так яснее проступают фигуры пешеходов на улице, когда редеет туман» [45] Перевод Ю. Жуковой.
. Но туман этот никогда не рассеивается окончательно.
Рассказы о Холмсе и Ватсоне мы любим за то, что они страшные. А страшные они по двум причинам. Во-первых, очень сильно семантически разнесены мотив преступления и его детали. Если на месте преступления находят пулю – это неинтересно, а если на месте преступления находят плюшевого зайца – это интересно. Это можно назвать законом Дойла, потому что самые иррациональные детали создают ощущение навязчиво-неотступного ужаса. Знаком преступления и черной меткой являются не череп, не кости и даже не полоска бумаги длиной в шпагу, как у Уилки Коллинза (роман «Женщина в белом»), непосредственного предшественника Конан Дойла, а зернышки апельсина (рассказ «Пять зернышек апельсина», 1890). Более того, преступление начинается уже с газетного объявления о вакансии: если человек в достаточной степени рыж, он может за очень хорошие деньги получить чисто номинальную работу («Союз рыжих», 1891) [46] Кстати, подобным приемом воспользовался Александр Грин, у которого в рассказе «Зеленая лампа» (1930) миллионер решает сделать себе игрушку из живого человека: каждый вечер, точно от пяти до двенадцати ночи, «может быть, год, может быть, – всю жизнь» он должен сидеть у окна, а на подоконнике – гореть зеленая лампа. Сначала от скуки, потом увлекшись, человек начал читать, учиться, и из него получился прекрасный врач, который спас потом этого разорившегося филантропа. Вот замечательная трансформация легенды на русской почве!
. Я уж не говорю о самом страшном, наверное, рассказе, который Конан Дойл считал блестящей своей удачей, – «Дьяволова нога» (1910), где абсолютно никак не соотносящиеся между собой детали сходятся в прихотливый узор.
Интервал:
Закладка:

![Тед Хьюз - Новые стихи [Иностранная литература]](/books/371989/ted-hyuz-novye-stihi-inostrannaya-literatura.webp)

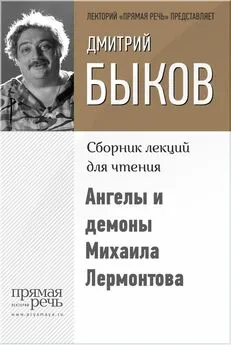
![Чарльз Буковски - Рассказы журнала [Иностранная литература]](/books/587604/charlz-bukovski-rasskazy-zhurnala-inostrannaya-lite.webp)

![Дмитрий Быков - Советская литература: мифы и соблазны [litres]](/books/1068513/dmitrij-bykov-sovetskaya-literatura-mify-i-soblazn.webp)



