Дмитрий Быков - Иностранная литература: тайны и демоны
- Название:Иностранная литература: тайны и демоны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ (БЕЗ ПОДПИСКИ)
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-121796-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Быков - Иностранная литература: тайны и демоны краткое содержание
В Лектории «Прямая речь» каждый день выступают выдающиеся ученые, писатели, актеры и популяризаторы науки. Их оценки и мнения часто не совпадают с устоявшейся точкой зрения – идеи, мысли и открытия рождаются прямо на глазах слушателей.
Вот уже десять лет визитная карточка «Прямой речи» – лекции Дмитрия Быкова по литературе. Быков приучает обращаться к знакомым текстам за советом и утешением, искать и находить в них ответы на вызовы нового дня. Его лекции – всегда события. Теперь они есть и в формате книги.
«Иностранная литература: тайны и демоны» – третья книга лекций Дмитрия Быкова. Уильям Шекспир, Чарльз Диккенс, Оскар Уайльд, Редьярд Киплинг, Артур Конан Дойл, Ги де Мопассан, Эрих Мария Ремарк, Агата Кристи, Джоан Роулинг, Стивен Кинг…
Иностранная литература: тайны и демоны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Рискну сказать, что главная тема Мопассана – это конец истории, конец человека и второе пришествие Христа. В новелле «Орля» (1887) Мопассан говорит нам, что человек вообще не главное существо на Земле. В первой редакции новеллы после рассказа своего пациента врач заключает: «Не знаю, безумец ли этот человек, или безумцы мы оба… или… или и впрямь явился на землю наш преемник» [70] Перевод М. Столярова.
. Человек – промежуточный этап эволюции, на смену ему пришло неведомое существо – и это сквозная и наиболее мучительная тема Мопассана. Мыслью о несовершенстве проекта человека, эсхатологическими настроениями человечества проникнуто все творчество Мопассана.
В основе мопассановского мировоззрения лежит катастрофа 1870–1871 годов – поражение Франции во Франко-прусской войне. Мы склонны обычно недооценивать масштаб этой катастрофы: подумаешь, проиграли бошам; зато была Парижская коммуна, потом построили церковь Сакре-Кёр (Святого Сердца, то есть Сердца Христова) во искупление своих грехов; зато Франция конца XIX – начала XX века – это родина потрясающего культурного взрыва, родина декаданса, родина импрессионизма и так далее. Очень немногие догадываются о непреодолимом характере этой катастрофы. Недаром роман Эмиля Золя о 1871 годе называется «Разгром», а самый эсхатологический поэт Франции, поэт, который острее всего почувствовал этот конец мира, Артюр Рембо, после 1873 года замолчал. И молчание Рембо гораздо красноречивее, чем мог бы он написать. Гораздо красноречивее, чем все, что написали Верлен, Малларме, Тристан Корбьер и другие.
Для Мопассана, ушедшего на Франко-прусскую войну добровольцем (он участвовал даже в боях), это было концом французской истории. И все, что написал Мопассан в очень короткий период своего творчества, – за десять лет он выпустил тридцать книг и сжег себя этой безумной работой, – это хроника упадка и распада, это хроника конца человечества.
Согласно библейскому учению, концу света предшествует второе пришествие Христа. В ожидании его и заключается причина безумия многих интеллектуалов. «Распятый» – подписывал последние свои письма Ницше и обрел адекватный отклик только в другом безумце: ему всерьез отвечал Август Стриндберг, тоже сумасшедший. Вот удивительное понимание безумцев, которые уважают безумие друг друга. Третий завет, или второе пришествие Христа, и есть главная тема литературы конца XIX века, то, о чем всю жизнь пытался написать Мопассан.
К началу XX века только очень оптимистичные либо очень душевно глухие люди полагали, что наступает век социального прогресса, наступает век техники и новых социальных форм жизни. Так полагали многие мыслители России, потому что нация русских достаточно молодая и для нее думать о смерти противоестественно. А вот старая Европа думает именно о том, что подступают испытания библейского характера и библейского масштаба. Человечество не может больше справляться с демонами, которых разбудило. Человечество не в состоянии больше управлять собой.
Эсхатологическая тема, тема конца человека как проекта, громче всех звучит в Англии. Конечно, это Герберт Уэллс, масштаб дарования которого сегодня недооценен. Уэллс прочно ушел в детскую литературу, хотя «Машина времени» (1895) – роман о том, что человечество непоправимо разделилось на элиту и массу – на элоев и морлоков и взаимоотношения между ними практически невозможны. Фактически буквальной экранизацией этого стал впоследствии «Метрополис» Фрица Ланга (1927), где в подземельях живут рабочие, а наверху – элита, которая стремительно вырождается. Да и Гриффин, герой уэллсовского «Человека-невидимки» (1897), тоже такой фашист-романтик. Невидимость – не более чем метафора, не более чем сюжетный ход. Гриффин знаменует собою вырождение человечества. Гриффин с его бесконечным презрением к человеку реализовался в XX веке в качестве фюрера, в качестве водителя масс. И хотя у Оскара Уайльда, самого французского из английских писателей, эсхатологическая тема не звучит, но христологическая тема, тема христианская звучит совершенно явственно. Он и самого себя рассматривает как состоявшегося Христа, как жертву. Даже литературу свою Уайльд ценил гораздо меньше, чем свою человеческую жертву. Не случайно, как мы помним, когда друзья уговаривали его уехать во Францию, он не уехал и был осужден. Вот это абсолютно христологическое поведение.
Вторым пришествием пронизаны в это время все эсхатологические ожидания. Отсюда безумие Врубеля, который воображал себя то Дионисом, то Христом. Отсюда безумие Адриана Леверкюна, как оно описано Томасом Манном в романе «Доктор Фаустус», отсюда безумие Ницше. Это не сифилис – это мучительное перенапряжение человека, угадавшего конец времен. Поэтому не мудрено, что в 1890 году Мопассан приступает к написанию своего главного романа «Анжелюс», герой которого – заново пришедший и неузнанный Христос. Многое в этом романе – страшная, кровавая пародия в духе Мопассана: Андре тоже родится в яслях, родится в морозную ночь, под Рождество. Он родится калекой, это тоже принципиально. Он родился при звуках Анжелюса [71] Angelus — колокол, призывающий к чтению молитвы к Пресвятой Богородице.
утреннего и умирает при звуках Анжелюса вечернего. Он пришел в мир как искупитель, но пришел в рушащийся мир французской империи, в трагически страшное время национального вырождения, наступившего после Наполеона, в эру массового безумия.
Действие романа происходит в Нормандии. В разгаре Франко-прусская война, пруссаки уже в Руане. Декабрь 1870 года. Молодая графиня де Бремонталь, мать одного ребенка – Анри, вот-вот родится второй, Андре, ожидает известий от мужа, который ушел воевать, несмотря на все ее увещевания. К ней приезжает на обед отец вместе с сельским кюре и доктором (сын этого доктора впоследствии будет пользовать крошку Андре, калеку). Вскоре после отъезда ее отца, оптимистичного, туповатого, абсолютно глупого, глухого ко всему духовному фабриканта, в замок входят немцы. Беременную графиню они нагло и бесцеремонно вызывают к себе, а когда она говорит, что они ведут себя неучтиво, пруссаки отвечают, что она уже здесь не хозяйка, и приказывают покинуть дом. Первая глава романа, единственная написанная до конца, заканчивается словами: «Ее гонят. Тем лучше!..»
Однако близким друзьям Мопассан рассказывал подробный план романа и даже читал некоторые отрывки. Из их воспоминаний можно представить, как дальше развивалось действие.
Оскальзываясь, по ночной ледяной дороге графиня добирается до хлева и в этом хлеву после падения (она упала животом на порог) рожает Андре. Он растет удивительно чистым, восприимчивым, одаренным ребенком, но у него парализованы ноги, и никакие попытки его вылечить, которые предпринимает терпеливый и искусный парижский врач, не приводят к прогрессу. Зато развивается ум мальчика: он внимательно слушает диалоги врача и священника и из споров их начинает формировать собственную теологию. Священник занят теодицеей, оправданием Бога; врач, напротив, обвиняет Бога, для него Бог – это неутомимый убийца, создающий прекрасное только для того, чтобы это прекрасное уничтожить. Кстати говоря, советские исследователи всегда хватались за этот тезис, потому что видели в Мопассане атеиста. Но это только кажется атеизмом; на самом деле это отчаянное, мучительное боготворчество, кризис веры.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

![Тед Хьюз - Новые стихи [Иностранная литература]](/books/371989/ted-hyuz-novye-stihi-inostrannaya-literatura.webp)

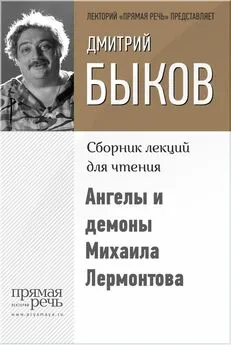
![Чарльз Буковски - Рассказы журнала [Иностранная литература]](/books/587604/charlz-bukovski-rasskazy-zhurnala-inostrannaya-lite.webp)

![Дмитрий Быков - Советская литература: мифы и соблазны [litres]](/books/1068513/dmitrij-bykov-sovetskaya-literatura-mify-i-soblazn.webp)



