Дмитрий Быков - Иностранная литература: тайны и демоны
- Название:Иностранная литература: тайны и демоны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ (БЕЗ ПОДПИСКИ)
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-121796-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Быков - Иностранная литература: тайны и демоны краткое содержание
В Лектории «Прямая речь» каждый день выступают выдающиеся ученые, писатели, актеры и популяризаторы науки. Их оценки и мнения часто не совпадают с устоявшейся точкой зрения – идеи, мысли и открытия рождаются прямо на глазах слушателей.
Вот уже десять лет визитная карточка «Прямой речи» – лекции Дмитрия Быкова по литературе. Быков приучает обращаться к знакомым текстам за советом и утешением, искать и находить в них ответы на вызовы нового дня. Его лекции – всегда события. Теперь они есть и в формате книги.
«Иностранная литература: тайны и демоны» – третья книга лекций Дмитрия Быкова. Уильям Шекспир, Чарльз Диккенс, Оскар Уайльд, Редьярд Киплинг, Артур Конан Дойл, Ги де Мопассан, Эрих Мария Ремарк, Агата Кристи, Джоан Роулинг, Стивен Кинг…
Иностранная литература: тайны и демоны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вы пытаетесь продавать пылесосы и граммофоны. Оставьте, это напрасная трата времени, – советует своему университетскому профессору Керн. – <���…> Вот мой совет. Купите связку шнурков для ботинок. Или несколько баночек мази для сапог. Или несколько пакетиков английских булавок.
Эмигрант, который был раньше трагической фигурой, у Ремарка превращается в фигуру трагикомическую. Потому что нельзя все время находиться в отчаянии, есть же какие-то формы самоспасения. Вот Людмила Петрушевская вспоминает, как у больного, умирающего Арбузова собрался его семинар, и кто-то из участников этого семинара стал читать вслух свою пьесу по Гоголю. Когда в шестой раз прозвучала ремарка «Снова вносят гроб», все, включая умирающего Арбузова, расхохотались. И точно так же невозможно не расхохотаться, когда читаешь у Ремарка, как Штайнер вытянул шестьдесят франков у нацистского агента. Потому что постоянно отчаиваться нельзя, и эмоциональная лабильность эмигранта приводит его к удивительной легкости смены состояний.
Наконец, пятая особенность эмигранта – это человек без прошлого и без будущего. Мы к такому герою совершенно не готовы. Он и о прошлом не проговаривается, и о будущем не думает. Всё вокруг напоминает ему о двух вещах: первое – могло быть хуже, второе – завтра будет хуже обязательно. Он как Серая Шейка, вокруг которой смерзается полынья. Он бежит в Париж – туда приходит Германия, он бежит в оккупационную зону Америки – туда приходит Сталин и забирает своих. Как в замечательном стихотворении Тадеуша Боровского «Лагерная прогулка», написанном в 1945 году в американском лагере для перемещенных лиц: «Вижу бункер, то есть карцер, / вижу флаг американский, / наш надсмотрщик ходит хмурый, / я гадаю: “Сталин, Трумэн?”» [95] Перевод В. Британишского.
А как выберешь между Сталиным и Трумэном? Там – маккартизм, здесь – поздний сталинизм.
XX век человеку выбора не оставляет. Эмигрант – это человек без шанса. И какой же восторг, какое ликование он испытывает в этой своей невероятной легкости бытия! Никаких нравственных скреп у него нет, все, что он хочет, то и может сделать, как в страшном и прекрасном сне. Для него моральный запрет весьма относителен, и все, что у него есть, это робкая память о детстве.
Могут сказать: а как же родители? Своих-то Ремарк очень любил и всегда помнил, но в романах его родители детям не опора. «Как будто нельзя быть сиротой, имея в живых и отца и мать», – думает Керн после встречи с отцом, которого даже не сразу узнал. «Это был не его веселый жизнерадостный отец из Дрездена, это был жалкий, беспомощный, одряхлевший старик, который приходился ему родственником и который не мог больше справиться с жизнью». А другому эмигранту мать присылает песочный торт и в письме сокрушается, что по дороге он высохнет. Хотя, утешает она, песочный пирог и должен быть немножечко пересушенным. А правда, что можно написать в последнем, может быть, письме любимому сыну, потому что ей шестьдесят и у нее больное сердце? Не писать же: «Я люблю, я скучаю, как вокруг все ужасно». Нет, тотальный песочный пирог. И это, может быть, единственное, что в какой-то степени защищает от ужасов окружающего.
Жизнь эмигранта описана Ремарком с поразительной точностью. И в этом залог его возвращения. Возвращения в том смысле, что мы сегодня читаем его как родного. Потому что он говорит о человечности среди бесчеловечных времен, он не требует от нас ничего чрезвычайного, мы для него такие, какие есть, он не зовет нас к хемингуэевской сверхчеловечности. Хемингуэевское мужчинство сегодня утратило свое обаяние, потому что сделалось смешно. А смешно оно сделалось именно потому, что любая претензия на роль сверхчеловека кончается одним и тем же – смертью. Тебя всегда настигает если не смерть, то Гитлер, пришедший в твою страну, если не Гитлер, то Сталин. И вот состояние эмигранта, у которого нет будущего, нет прошлого и которому надо все успеть сегодня, это состояние передано Ремарком безупречно.
Из двух романов, которые Ремарк, поставив дело на поток, писал одновременно, – «Триумфальная арка» и «Возлюби ближнего своего», – «Возлюби ближнего…» и по объему побольше, и по тону поинтереснее. И в нем, небывалое дело, Ремарк использует один литературный прием. Вообще-то Ремарк нас литературными приемами не балует, он пишет очень просто, как мы уже знаем, но в «Ближнем…» прием заключается в том, что в романе две части, и вторая повторяет первую. Вот эта цикличность, этот повтор показывает неизбежность событий в истории. Помните, когда Керн в первой части попадает за отсутствие паспорта в кутузку (это еще не тюрьма, а арест на две недели, что все время подчеркивается), один арестант, лысый, вспоминает, что у него в чемодане осталась жареная курочка, он два года копил на эту курочку, а пока их выпустят, она, чего доброго, протухнет и он все время об этом с горькой печалью говорит. А другой персонаж, поляк, наоборот, говорит, что он курицу не любит, на дух не переносит ни в жареном, ни в вареном, ни в фаршированном виде, и остальные сокамерники, от голода скрежеща зубами, готовы уже удавить обоих. Эта же курочка появляется во второй части, где Керн оказывается в тюрьме и слышит от новоприбывшего арестанта: «О боже! А у меня в чемодане курочка! Жареная курочка! Она же протухнет, пока я выйду!»
Прием – это уже достаточно много. Но при всем при этом в «Триумфальной арке» есть нечто, чего в других романах Ремарка не найти. Я согласен с потенциальным критиком, что это скучная книга. Скучная в том смысле, что она ужасно дурновкусна, и положительный герой Равик – первая, может быть, попытка Ремарка написать такого хемингуэевского сверхчеловека, который в конце все равно признается, что он еврейский эмигрант, и слетает с него эта шелуха сверхчеловечности. Но что есть в этой книге, так это трезвые, еще не испорченные временем воспоминания о романе с Марлен. В Жоан Маду мы узнаем ее, мы узнаем все безвкусие актрисы, узнаем всю ее лживость, узнаем, что она должна постоянно умирать, и, когда она умирает наконец, у нее это получается тоже очень артистично, как у Вертинского в песне «Рафинированная женщина»: «Восемнадцатый раз я спокойно присутствую / При одной из обычных для Вас “смертей”». Но это идеальная женщина для эмигранта. Потому что она позволяет ему в ничтожно малую единицу времени испытать весь эмоциональный спектр – начиная с полного отчаяния до полного восторга обладания и кончая ужасом, и это всегда встреча-разлука, как в стихах Веры Павловой: «Муза вдохновляет, когда приходит. / Жена вдохновляет, когда уходит. / Любовница вдохновляет, когда не приходит. / Хочешь, я проделаю все это одновременно?» Вот это счастье эмигранта, потому что у него нет другого дня и, проведя с такой женщиной одну ночь, он успевает испытать больше, чем с любой за десятилетия. И актриса эта, Жоан Маду, прекрасна тем, что играет каждую секунду и не скрывает этого.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

![Тед Хьюз - Новые стихи [Иностранная литература]](/books/371989/ted-hyuz-novye-stihi-inostrannaya-literatura.webp)

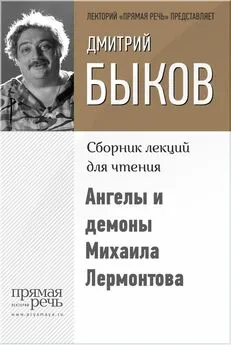
![Чарльз Буковски - Рассказы журнала [Иностранная литература]](/books/587604/charlz-bukovski-rasskazy-zhurnala-inostrannaya-lite.webp)

![Дмитрий Быков - Советская литература: мифы и соблазны [litres]](/books/1068513/dmitrij-bykov-sovetskaya-literatura-mify-i-soblazn.webp)



