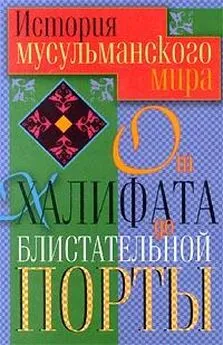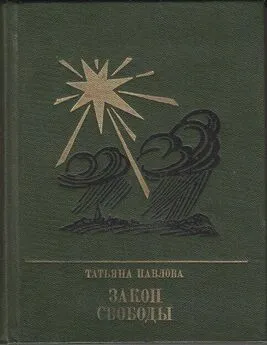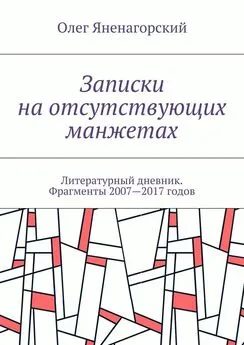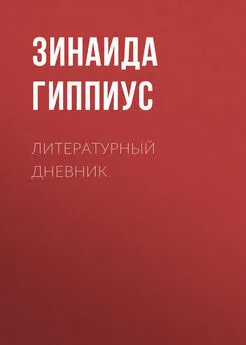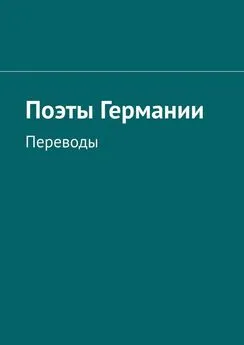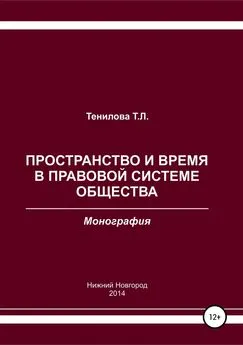Татьяна Ирмияева - Пространство свободы. Литературный дневник
- Название:Пространство свободы. Литературный дневник
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005193865
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Ирмияева - Пространство свободы. Литературный дневник краткое содержание
Пространство свободы. Литературный дневник - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сегодня психологи сказали бы о Раскольникове, что у него четко выражена зависимость, несамостоятельность душевного склада, – свои затруднения он пытается решить за счет других, предлагая им неравноценную сделку: вы мне всё, даже и саму жизнь, а я вам – идею о всеобщем благоденствии потом. В сущности, Достоевский почти полностью располагает Раскольникова за пределами нравственной жизни. Но гениальность писателя проявилась в том, что он показывает, как Раскольников совершает яркие благородные поступки: спасает детей из горящего дома, отдает деньги Катерине Ивановне, помогает больному товарищу, а затем и его отцу. Ученые называют подобное поведение демонстративным, суть которого заключается в том, что трусливый стремится выглядеть в глазах окружающих храбрецом, жадный – щедрым, подлый – благородным. Так и Раскольников, зная о себе всё, старается компенсировать, «загладить». Его благородные поступки не касались нравственной жизни, скользили по поверхности, оставляя неподвижной глубинную сущность его характера. Неподвижная мысль, владевшая им, бросалась в глаза всем хорошо его знавшим. Та точка, на которой стоял Раскольников, была для него окончательной и бесповоротной. И в этой точке он должен был развернуться, отвоевать себе пространство, и тогда, действительно, всю его жизнь старуха-процентщица заела, и ее оставалось только убить, чтобы «освободиться». Неспособность видеть дальше собственного носа – характерная черта всех идейных фанатиков. Взять хотя бы такие «смелые» рассуждения студента в трактире: «…с одной стороны глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, для чего живет… С другой стороны, молодые, свежие силы, пропадающие даром, без поддержки, и это тысячи, и это всюду! Сто, тысячу добрых дел и начинаний, которые можно устроить и поправить на старухины деньги… Убей ее и возьми ее деньги с тем, чтобы с их помощью посвятить потом себя на служение всему человечеству и общему делу… да ведь тут арифметика!» Арифметика, конечно, неотразимая для «прогрессивного» ума. И в самом деле: «Грабь награбленное!» – разве не выход? Но так – позже, а в те времена участь Раскольникова была предопределена реакцией молодого, восприимчивого ума, замахнувшегося на воплощение пустых словес и надорвавшегося от пошлости безответственных лозунгов, брошенных наудачу ловцами человеческих душ. И здесь Достоевский поразительно современен. Он с необыкновенной силой художественной правды обозначил один из «вечных» вопросов бытия: может ли человек сам, без какого-либо влияния со стороны, решить для самого себя и для всех, что истинно в этом мире, а что – ложно, что благодетельно, а что – преступно, и где критерий, позволяющий определить это? Достоевскому удалось показать трагедию отдельной человеческой воли, вечно предпринимающей попытки «…взять просто-запросто всё за хвост и стряхнуть всё к черту!» Показать преступление как переступание через все нормы нравственной жизни и наказание отчетливым пониманием, что за дешевый миг воображаемого «могущества» отдана бесценная собственная жизнь.
29 марта 1996 г.Андрей Платонов. Счастливая Москва
Стиль большого писателя сказывается в каждой написанной им строчке. Мне долго не удавалось преодолеть первую же фразу, с которой начинается роман «Счастливая Москва»: «Темный человек с горящим факелом бежал по улице в скучную ночь поздней осени». Трудность вхождения в текст «Москвы» заключалась в том, что я пыталась анализировать его традиционно, но ощущала сильнейшее ответное сопротивление. Итак, «темный человек…» – типичное платоновское сочетание, в котором абстракция сплавлена с картинностью. Внешне картина: темная фигура, силуэт, внутренне – темный, забитый, неизвестный, пугающий… «…В скучную ночь поздней осени». Кто это говорит? Девочка? Автор? Опять внешняя ясность – ночь поздней осени, конечно же, скучна, но в контексте творчества Платонова, скука ночи заключается в том, что человек находится в ней в состоянии бездействия, вынужденной остановки. Ночь – уступка несовершенному человеческому организму, которому требуется отдых. Оттого же скучны и сны – они погружают человека в пространство иллюзии, и он грезит, а не мыслит с пользой для дела. Выражение «…сильный выстрел из ружья…» как будто воспроизводит детскую эмоцию, но потом – вполне взрослый вывод: «…наверное убили бежавшего с факелом человека». Так кто же это говорит? «…Бедный грустный крик…» – так может говорить взрослый, а не маленькая девочка. «…И память, и ум раннего детства заросли в ее теле навсегда последующей жизнью» – почти как у Радищева о мысли, вырабатываемой кровью и достигающей мозга как некое тело. Такая архаика заставила меня впервые почувствовать, что я разбираю «не тот» текст.
Основное впечатление при чтении: оно надрывает душу, наполняет ее горечью и тоской, но постепенно приходит ощущение, что происхождение этой тоски то же, что и смеха, добываемого посредством щекотки, поскольку нет объекта, которому сопереживаешь. Героям Платонова не сопереживаешь, так как они начисто лишены внутреннего духовного пространства, возможности сделать сознательный выбор в своей жизни, принять решение, перед ними не стоит никаких творческих задач, их не мучает совесть – они не рефлексируют. Это совершенные механизмы, сопереживать которым не приходит в голову, потому что они никак не связаны со средой, в которую погружены, у них нет прошлого и настоящего, они находятся в безвоздушном, застывшем пространстве чистой функции. То, что надрывает душу: «…бедный грустный крик» убиваемого, – вне текста, это мое собственное представление о несправедливости, жестокости. Сопереживаешь не образу, созданному художественными средствами (в сущности, не знаешь, кто этот человек, его нет в тексте – его судьбы, его пути), а вообще всем погибающим. Чувство сопереживания становится безадресным, расплывчатым, недейственным, глубоко личным, и для меня это явилось вторым признаком архаичности текста – он сам почти ничего не рассказывает, не показывает, но все время обращает читателя лицом в себя, как перст указующий. Мне стало ясно, что передо мной текст не прозаический, что как будто очевидно, если исходить из его архитектоники, а поэтический, с сильнейшей лирической интонацией. Темная поэтическая речь, но без композиции, без темы, без развития, обращающаяся прямо к эмоции, к чувству читателя и потому волнующая, задевающая, тревожащая, хватающая за душу:
Но до поздних лет в ней
неожиданно и печально
поднимался и бежал
безымянный человек —
в бледном свете памяти —
и снова погибал
во тьме прошлого,
в сердце выросшего ребенка.
Интервал:
Закладка: