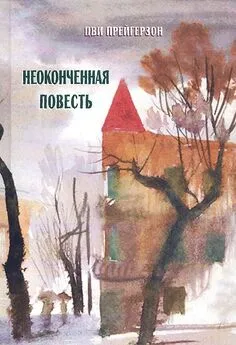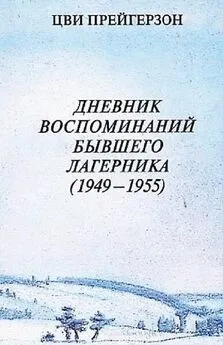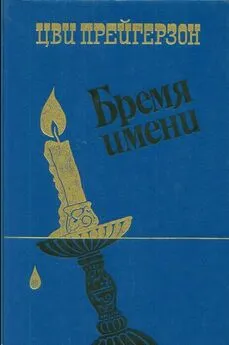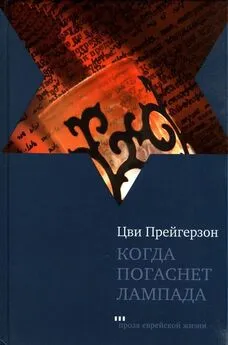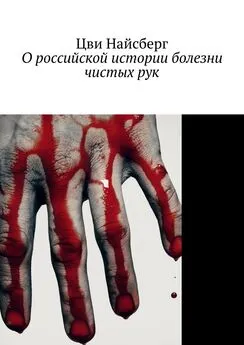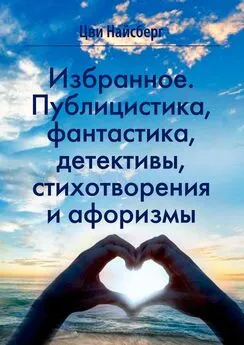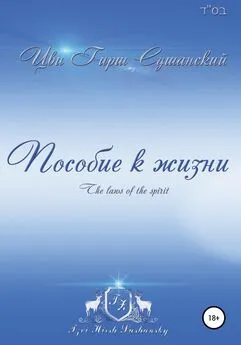Нина Липовецкая-Прейгерзон - Мой отец Цви Прейгерзон
- Название:Мой отец Цви Прейгерзон
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Филобиблон
- Год:2015
- Город:Иерусалим
- ISBN:978-965-7209-28-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Нина Липовецкая-Прейгерзон - Мой отец Цви Прейгерзон краткое содержание
Да, все это осталось; отчего же в моем сердце все еще живет щемящее чувство неудовлетворенности? Возможно, оттого, что кроме меня, некому уже рассказать о его душевных качествах, скромности, благородстве, о его мягком юморе, о его необыкновенном человеческом обаянии. Особенности его характера, сила его человеческого притяжения, которая заставляла людей тянуться к нему, где бы он ни находился — в сталинском лагере или на институтской кафедре, — именно это осталось недосказанным. А ведь это так важно! cite
Нина Липовецкая-Прейгерзон
Мой отец Цви Прейгерзон - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вскоре мы узнали причину их ареста: муж старшей дочери Светланы стал невозвращенцем, отказался вернуться в СССР. Это было достаточно шумное дело. Газеты писали, что Гузенко, мол, соблазнили деньгами и перспективой комфортабельной жизни. Есть упоминание об этом случае и в книге воспоминаний Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь».
Помню, когда Алла ждала ребенка, она показывала нам, соседям, клубочки разноцветной мохеровой шерсти, которые Светлана прислала ей из Канады, — на выбор, чтобы Алла решила, какого цвета кофточку она хочет связать своему будущему младенцу. По тем временам это казалось настоящим чудом! Но вот как трагически все повернулось: родителей и Аллу сослали в Сибирь, а ее прыткий муж быстренько оформил развод и некоторое время спустя привел в квартиру новую малосимпатичную жену. Алле пришлось еще выдержать долгую судебную тяжбу за право оставить у себя дочку. Он доказывал в суде, что Алла — человек с несоветской идеологией и не имеет права воспитывать ребенка. К счастью, Алла была не арестована, а всего лишь сослана, и дочку оставили ей.
Через десять лет, в период «реабилитанса», Алла с мамой и дочерью еще попробовали вернуться в Москву. Но жить им в столице было негде, а в ссылке они как-никак успели обзавестись хозяйством. Немного помыкавшись, Гусевы уехали обратно, и больше я их не видела.
А вот семья Кащеевых. «Сам», Василий Дмитриевич, был горный инженер, а жена его ходила в «вечных студентках» мединститута, который она так и не окончила. Их дочь Инна была моей ровесницей, довоенной подружкой. Поначалу Кащеев производил самое хорошее впечатление, его никак нельзя было заподозрить в чем-то предосудительном.
Но была некая странность: достаточно было кому-либо прийти к нам в гости, как Кащеев тут же оказывался в коридоре, как будто любопытствовал: кто же это пришел к Прейгерзонам? Более того, когда к нам приходили друзья-знакомые, Кащеев через некоторое время уже топтался у порога нашей двери, стучался и даже протискивался в комнату под каким-нибудь пустячным предлогом. Это настораживало. Родители понимали, что все это неспроста: по-видимому, Кащееву поручили докладывать обо всех, кто приходил к отцу.
Впрочем, в те времена сотрудники МГБ очень многим предлагали давать информацию по интересующим их лицам. Моя мама тоже как-то получила такое предложение. Мгновенно найдясь, мама в ответ воскликнула: «Как я могу, я так плохо вижу и так плохо слышу!» От нее отстали.
Во время войны кащеевская дочка жила в деревне у родственников на оккупированной территории. После победы она вернулась в Москву, веселая, спокойная и раздобревшая. В ответ на наши расспросы она только отмахивалась: питалась, мол, одной картошкой. Тогда уже можно было сравнить ее судьбу с судьбой еврейской девочки Тамары, оставшейся на оккупированной территории, о которой речь пойдет позже.
Рассказ о нашей квартире был бы неполным без упоминания о нашей общей проходной комнате или, как ее называли жильцы, «коридоре», куда выходили двери всех жилых комнат. Это было просторное квадратное помещение без окон, площадью примерно 35–40 кв.м. Вместо обычного потолка там был стеклянный купол, и проникавшие сквозь него лучи создавали особое праздничное настроение. Для нас, детей, играть там было одно удовольствие. Возможно, при прежних хозяевах здесь была приемная или танцевальный зал. Увы, потом решили возвести надстройку и купол убрали. Двухэтажный дом превратился в трехэтажный, а светлая радостная комната — в унылую проходную, тускло освещенную маленькой электрической лампочкой.
Ну и, конечно, нельзя не рассказать о главном «соборном» помещении, где священнодействовали наши хозяйки, — об общей кухне. Это была комната примерно в двадцать квадратных метров, где вдоль стен стояли небольшие кухонные столики, принадлежавшие каждый одной семье. В середине комнаты еще с дореволюционных времен размещалась большая чугунная печь. В наше время она уже не топилась — на ней в боевом порядке выстроилась армия примусов и керосинок.
В тридцать шестом провели газ, и когда мы в тот год вернулись с дачи, этой чугунки уже и в помине не было: ее место заняли две аккуратные газовые плиты, каждая с четырьмя конфорками. В кухне стало намного просторней.
Именно здесь соседи чаще всего общались между собой. Ведь каждая хозяйка проводила на кухне по несколько часов в день — варила, жарила и пекла. До 50-х годов холодильников еще не было, и готовкой приходилось заниматься ежедневно. Мужчины здесь появлялись редко, но зато женщины общались довольно тесно — нельзя же часами стоять молча! В 30-е годы у плиты часто можно было услышать сравнения нынешнего быта с дореволюционным. К примеру — «а до революции не было очередей», или — «а до революции можно было купить то-то и то-то», и пр. и пр. Однако о главном, о том, что больше всего терзало людей, — об арестах соседей и знакомых, о страхе и ожидании беды, — об этом молчали глухо, никогда не упоминая даже единым словом.
Бывало, в квартире вспыхивали ссоры, в основном типично коммунальные: об оплате общественных услуг, света в местах общего пользования, газа, а позже и телефона. Кто-то хотел равномерного распределения расходов, другие требовали учитывать количество душ в семье. У каждой семьи имелись свое корыто и таз, и вся эта бытовая красота висела в ванной комнате на стенах. Стирали на кухне, белье вываривали на плите в тазу или в чане. Помню времена, когда рано утром приходила молочница со свежим молоком в бидоне и разливала его ковшом. Потом молочницы исчезли, а молоко стали продавать в бутылках в магазине.
Хорошо помню атмосферу коммуналки, которая в полной мере ощущалась именно на кухне, в этом «квартирном клубе». До войны она была полна благожелательности: обменивались книгами, покупали друг другу билеты в театр, рассказывали о повседневных событиях. Ведь жены преподавателей, получивших здесь жилплощадь, происходили, как правило, из интеллигентных семей, и были воспитаны еще до революции. Иные из женщин не работали вообще, не сразу приспособившись к новому образу жизни.
Был период, когда почти в каждой семье жила домработница, ведь девушек из деревни, где в то время царил голод, найти было нетрудно. Однажды поздним вечером, когда я была еще совсем маленькой, мама послала меня в кухню принести воды. Помню, как я удивилась: кухня была впритык уставлена раскладушками — на них спали домработницы… Но этот довоенный период длился недолго. А после войны ни о каких домработницах, да еще и без прописки в столице, не могло быть и речи. Конечно, кое-где они еще оставались, но только в особо привилегированных домах крупных начальников, известных актеров и т. д.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: