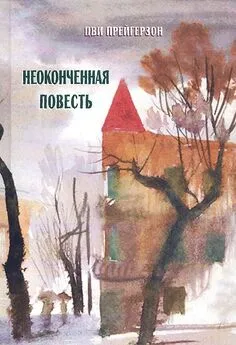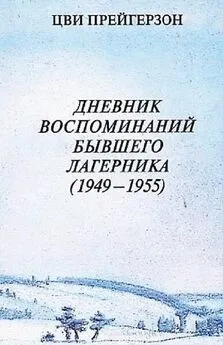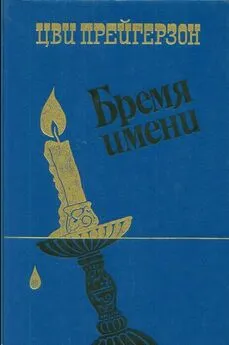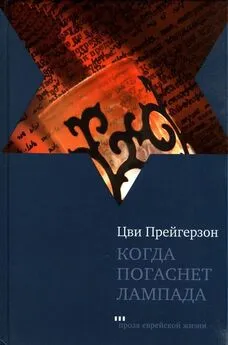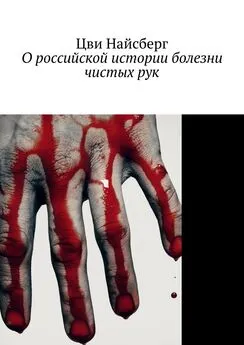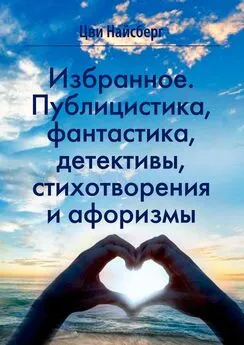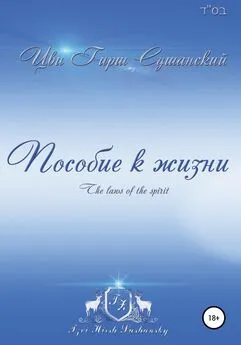Нина Липовецкая-Прейгерзон - Мой отец Цви Прейгерзон
- Название:Мой отец Цви Прейгерзон
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Филобиблон
- Год:2015
- Город:Иерусалим
- ISBN:978-965-7209-28-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Нина Липовецкая-Прейгерзон - Мой отец Цви Прейгерзон краткое содержание
Да, все это осталось; отчего же в моем сердце все еще живет щемящее чувство неудовлетворенности? Возможно, оттого, что кроме меня, некому уже рассказать о его душевных качествах, скромности, благородстве, о его мягком юморе, о его необыкновенном человеческом обаянии. Особенности его характера, сила его человеческого притяжения, которая заставляла людей тянуться к нему, где бы он ни находился — в сталинском лагере или на институтской кафедре, — именно это осталось недосказанным. А ведь это так важно! cite
Нина Липовецкая-Прейгерзон
Мой отец Цви Прейгерзон - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Помню, как мы с родителями ходили на кладбище, на могилу известного цадика. Потом-то я узнала, что здесь был похоронен основатель ХАБАДа Шнеур Залман, Старый ребе из Ляд, как его называли. На его могиле стояло небольшое строение, внутри которого горела лампада. А рядом с могилой, в земле, было углубление, наполовину заполненное многочисленными записочками, похожими на те, которые засовывают в щели между камнями Стены Плача в Иерусалиме.
Мама тоже написала записку, сложила ее и положила в ту же нишу. Я спросила, что она там написала?
— Чтобы вам Бог послал хороших женихов!
Мне было тогда восемь лет, так что эти слова прозвучали для меня дико. Но как быстро бежит время, как неисповедимы пути Господни!
Вечерами у нас собирались друзья — Сивашинские, брат и сестра, чьи родители жили в Гадяче, и Плоткины, приехавшие в Гадяч в полном составе. Вся компания обсуждала еврейские проблемы. Интересно, что к папе нередко заходили и местные евреи, обсуждавшие с ним свои личные дела и проблемы еврейской общины Гадяча. Много говорили о политике, о фашизме, о Гитлере, о преследованиях евреев. Во всем этом чувствовалась тревога. Именно судьба евреев Гадяча во время немецкой оккупации стала главной темой папиного романа «Когда погаснет лампада» («Вечный огонь»), изданного в Израиле в 1966 году, и в Москве, в переводе на русский язык, в 2014-м.
Иногда устраивались вечеринки. Ведь вся эта московская компания состояла из молодых еще людей. На столе появлялась бутылка вина, закуска, Вадим Козин пел из граммофонной трубы свое знаменитое танго «Утомленное солнце». Слышалось много шуток, все смеялись и веселились от души.
В лунные вечера шли кататься на лодках, брали с собой детей. Хорошо было медленно плыть по заводям среди водорослей, где нет сильного течения, — там дети срывали белые и желтые кувшинки с длинными стеблями. Отец запевал, и все подхватывали мелодию еврейской песни. Папа вообще трепетно относился к еврейской музыке, дома он часто ставил эти пластинки. Я и теперь еще узнаю мелодии, услышанные от отца в детстве.
Почти каждый день в шесть часов вечера в нашем дворе собиралось много ребят — дети дачников-соседей и местных жителей. Мы все усаживались на траву, а папа сидел на скамейке и рассказывал нам сказку. Сказки были с продолжением, каждый день очередной его рассказ длился минут тридцать. Думаю, что когда отец прерывал свой рассказ, он еще не знал, о чем он расскажет завтра, и, по-видимому, сочинял на ходу.
О чем же он рассказывал? Это не были повести о красных девицах и богатырях, о добрых или злых волшебниках — словом, ничего похожего на сказки, которые нам обычно читали в детстве. Папа рассказывал захватывающие истории о наших сверстниках, которые отличались смелостью и отвагой, совершали благородные поступки. Это были рассказы о необыкновенных приключениях, путешествиях, опасностях, о дружбе обычных мальчиков и девочек, на месте которых мог бы оказаться каждый из нас. В этих сказках вроде и не было никакого волшебства, но в нашей обыденной жизни ничего подобного не случалось, и мы воспринимали все эти истории как нечто необыкновенное. И то, что их герои были обычными ребятами, делало папины рассказы еще интересней и загадочней.
Это начиналось каждый день в одно и то же время. Когда рассказ подходил к концу, но развязка еще не наступала, папа смотрел на часы и говорил: «Время вышло!» Как назло, это всегда происходило на самом интересном месте. Но никакие мольбы не помогали, рассказчик был непреклонен: «Продолжение услышите завтра!» Можете себе представить, как мы ждали продолжения рассказа на следующий день!
Но вот настает пора отъезда, уже рассказана последняя история. Если мне не изменяет память, это было трогательное повествование о том, как мальчик предотвратил ужасную аварию, успев в последнюю минуту предупредить водителя машины с детьми об обвале на дороге.
— За этот поступок, — заметил папа, — мальчик получил замечательный подарок.
— А что он получил? — послышалось с разных сторон
— Об этом вы услышите завтра, — последовал ответ. — А пока пусть каждый из вас подумает, что бы он сам хотел получить в награду.
Следующий, последний день нашего летнего отдыха мы все ожидали с особым нетерпением. Папа начал с того, что спросил у каждого, какой подарок хотелось бы тому получить. Ах, бедные на фантазию дети 30-х годов! Кукла с закрывающимися глазами, заводная машинка — вот, пожалуй, самые дорогие подарки, о которых могли тогда мечтать дети. Но папа сказал, что за столь смелый и мужественный поступок мальчику подарили железную дорогу с поездом и настоящий детский велосипед с надувными шинами! А также медаль и путевку в пионерский лагерь Артек. Это уже было сверх самых смелых наших ожиданий!
Как хорошо и интересно было нам с папой! Теперь я все пытаюсь припомнить, как мы проводили время в его отсутствие. Пытаюсь и не могу — хотя и без папы вокруг был тот же лес, и та же река Псел.
Я уже упоминала о том, что наши счастливые воспоминания относятся к самым страшным годам сталинских репрессий. Но что знали мы, дети, об этой чудовищной стороне жизни? Как ни напрягаю память, ничего не могу вспомнить. Взрослые подолгу обсуждали разные темы, в особенности еврейскую проблему. Но я никогда не слышала их критических суждений в отношении советской власти. Скорее всего, в разговорах вообще не было принято касаться этой запретной, чересчур опасной темы, ведь тогда одно неосторожное слово могло привести к гибели. Поэтому можно сказать, что у нас было самое обычное счастливое детство — конечно, до тех пор, пока мы воочию не столкнулась с арестами, непосредственно в нашей московской квартире.
Следующее лето (1940 г.) наша семья провела не на Украине, а под Москвой, в поселке Истра, что недалеко от подмосковного Нового Иерусалима. Вода в здешней речке Истре была очень холодной, и мы уже не могли плавать в ней сколько угодно, как в реке Псел, — только окунались, и назад, на берег.
Мы продолжали ездить на отдых не одни, а в компании со знакомыми семьями. Так было и веселей, и интересней. Мама вообще умела организовать друзей — как своих, так и папиных. В Истре мы опять отдыхали с семьей Цви Плоткина — не в последнюю очередь, думаю, потому, что папе и Цви Яковлевичу хотелось общаться на иврите. Мы были очень дружны с женой Плоткина Любовью Соломоновной и его детьми — Ури, который был старше нас на несколько лет, и его сестрой Тамарой — младше меня на год. Мы замечательно проводили время, гуляли в лесу, собирали грибы, купались, устраивали интересные вечера и с наслаждением ели домашнее мороженое.
Помню, как мы поехали с отцом в Новый Иерусалим. Сохранилась фотография, где мы с Асей стоим возле храма в шапочках-«испанках» — тогда многие дети их носили как знак сочувствия к страдающим от фашизма испанским детям. Время было уже тревожное. В Истре мы узнали, что немцы вошли в Париж, и это стало частой темой бесед отца и Цви Плоткина. И хотя они обычно разговаривали между собой на иврите, мы чувствовали их тревогу за судьбу евреев Европы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: