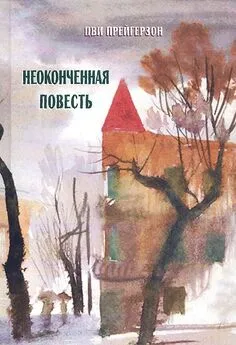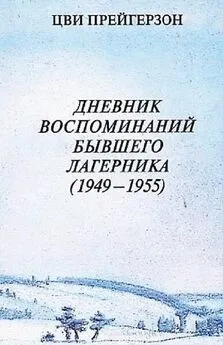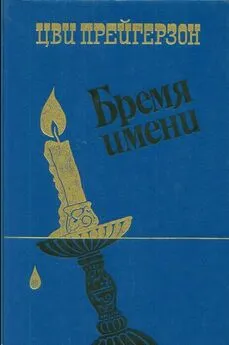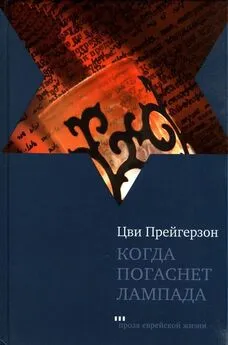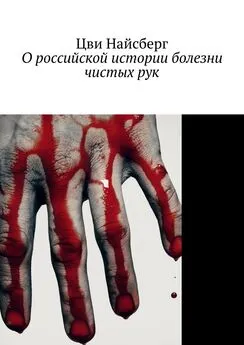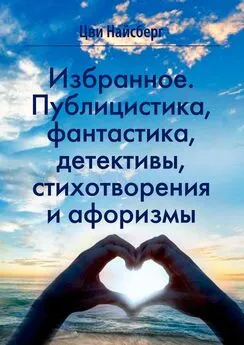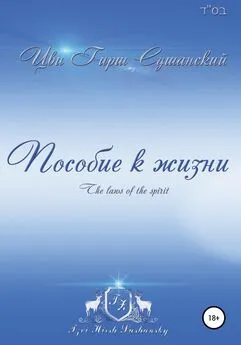Нина Липовецкая-Прейгерзон - Мой отец Цви Прейгерзон
- Название:Мой отец Цви Прейгерзон
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Филобиблон
- Год:2015
- Город:Иерусалим
- ISBN:978-965-7209-28-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Нина Липовецкая-Прейгерзон - Мой отец Цви Прейгерзон краткое содержание
Да, все это осталось; отчего же в моем сердце все еще живет щемящее чувство неудовлетворенности? Возможно, оттого, что кроме меня, некому уже рассказать о его душевных качествах, скромности, благородстве, о его мягком юморе, о его необыкновенном человеческом обаянии. Особенности его характера, сила его человеческого притяжения, которая заставляла людей тянуться к нему, где бы он ни находился — в сталинском лагере или на институтской кафедре, — именно это осталось недосказанным. А ведь это так важно! cite
Нина Липовецкая-Прейгерзон
Мой отец Цви Прейгерзон - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А юмор Прейгерзона! В литературе на иврите не так уж много юмора, в том числе и у наших классиков, он у них либо очень уж тонкий, либо порой слишком острый, язвительный. У Чехова в персонажах масса хорошего юмора, а нашей литературе не хватает крепкой основы реалистической литературы, непосредственной, опирающейся прежде всего на жизненные события. И интересно, что именно писатель, который был вроде бы оторван от основы и по идее должен был писать что-то в духе Кафки или Бруно Шульца, что-то такое ужасное о ночных кошмарах, именно он сохранил ясную голову. Возможно, ему в этом помог живший в нем инженер, ученый, и за это нужно благодарить Бога вдвойне и втройне.
В заключение хочу прочесть его стихотворение (и прекрасное стихотворение), посвященное Иохевед Бат-Мирьям, на ее отъезд в Эрец-Исраэль. Стихотворение из десяти строк, сжатое, необыкновенное. Этот прозаик был и замечательным поэтом.
И — конец!
И конец этой долгой дороге,
спазму нервов, пространству времен,
и судьбе, и минувшим годам…
Где ты, мать милосердная?
Кто нас
приласкает,
утешит, спасет?
Моих братьев ведут к эшафоту,
и я — среди них.
Что в этом стихотворении? Отчаяние ли? Господа, говорю вам: это настоящее сионистское стихотворение. Это и есть квинтэссенция настоящего сионизма: отсутствие альтернативы. Это тот самый сионизм, который против воли привел в Израиль — и еще приведет — миллионы евреев, прежде всего из той самой великой России, ельцинской, хасбулатовской и уж не знаю, кто там из них останется наверху.
Это сионистское стихотворение. «Конец» — это не описание ситуации, а восклицание: хватит! Хватит бродить по дальним дорогам, хватит, не хочу больше, а может быть, их и не будет больше, настал конец. Вот что такое была Катастрофа: вместо того, чтобы бежать от нее, мы были уничтожены ею.
Выступление писателя Аарона Мегеда
(28.3.1989. Музей диаспоры в Тель-Авиве)
Господа, я очень взволнован тем, что нахожусь здесь; прежде всего потому, что это сионистское собрание, и я вижу перед собой сионистов, а такие собрания в последнее время — редкость. Можно поехать в США и присутствовать там на собраниях сионистских организаций, но тамошняя публика жертвует Израилю деньги и дает советы, хорошие или плохие, а вот сионистов в том смысле, как мы привыкли это понимать, очень мало. А здесь я вижу перед собой людей с великими заслугами: мы в Израиле привыкли к героизму на войне и героизму в труде, но эти люди — герои языка. Люди, которые были преданы ивриту и отдали ему свою жизнь. И это тоже редкость.
Я должен признаться, что не знал Прейгерзона, я узнал о нем лишь недавно и лишь недавно прочел его, к стыду своему. Открыть для себя хорошего писателя — это большая радость, и радость эта случилась со мной, когда я прочитал его рассказы, роман и воспоминания. Но, кроме радости, это и горе — что я узнал о нем с таким опозданием, лишь после его смерти. Мы, к сожалению, несправедливо обходимся со многими людьми, которые живут в далеких углах, пишут прекрасные вещи и остаются безвестными — в том числе и здесь, в Израиле, а мы их не знаем, они остаются вне нашего кругозора, просто потому, что они поздно приехали (из России, Аргентины, Америки), поздно начали печататься, и мы их не замечаем. И это очень большая несправедливость.
По-моему, Прейгерзон — это великое чудо. Причем двойное. Во-первых, сам факт, что человек в течение многих лет пишет на иврите ТАМ — это, примерно, как обнаружить цветущую розу под снежным сугробом. Как ему удалось так сохранить язык? Но, кроме того, именно этот человек, судя по его биографии, которую я прочел, был прямо-таки обречен на то, чтобы ассимилироваться в русской культуре и забыть еврейскую. Он влился в русскую среду намного успешнее, чем многие другие, его там признавали, уважали и награждали. Для него как раз просто и естественно было бы ассимилироваться, а он, несмотря на это, не только сохранил иврит, но прямо-таки жил и дышал им. Он — отпрыск того дерева русского еврейства, которое, к счастью, не засохло. Сто лет тому назад молодой поэт (который вскоре и умер молодым) написал в России такие строки на иврите:
Душа моя тоскует
По тебе, Святая Земля!
Ах, если бы мы вместе
Воскресли — и ты, и я!
Сегодня, господа, таких слов не слышно. Потому что вернуться в Святую Землю сумели многие, но крайне мало таких, кто сказал бы, что это воскресит их душу. И, возможно, сегодня такое можно найти только среди этой ветви русского еврейства.
Рассказы Прейгерзона сильно отличаются от того, что знакомо мне или другим ивритским читателям о том времени в России, во время революции и после. Мы знаем, например, рассказы Хаима Хазаза, написанные в тот же период. Но они имеют совершенно другой характер, они экспрессионистские, они передают все потрясения этой эпохи, в них нет ни минуты передышки. А здесь совсем другая традиция, традиция русского реализма, повестей Тургенева, рассказов Чехова, а кроме того, и традиция еврейской литературы, в том числе хасидских рассказов, как в рассказе «Шаддай» — о талисмане, который во время войны переходит от одного к другому и спасает своих обладателей. Это талисман, на котором сам Аризал начертал слово «Шаддай», и он спасает девочку, а потом и другого человека, который оказался рядом с ней. В этом есть некая традиция, о которой мы думали, что она прервалась, — а она продолжается.
Я читал эти рассказы, восхищаясь искусством автора, — ибо эти рассказы написаны с великолепным искусством. Многие из них выглядят как воспоминания, вроде бы все так и было на самом деле, однако это не просто воспоминания. Из области воспоминаний в область художественного рассказа их переносят чудесные описания характеров, талантливые описания пейзажей, исключительный язык. И концовки, оставляющие ощущение какого-то дополнительного смысла, который автор хочет передать вам помимо самих описываемых событий. Собственно говоря, у большинства рассказов этот дополнительный смысл один и тот же — пожалуй, он заключается в том, что, несмотря на все ужасные испытания, через которые проходят евреи, они все-таки сохраняют горящий уголек, и он не гаснет. И все это написано с таким прекрасным чувством языка, которое редко сыщешь даже и в Израиле. Отношение Прейгерзона к ивриту — это не романтическая любовь, а брак, принесший свой плод: оплодотворение языка.
Приведу несколько примеров, на которых могли бы поучиться израильские писатели. Например, он пишет, как солнце осветило обои в комнате: «Солнце позлатило стебли цветов на стенах». Или: «бормочущий треск швейной машинки». Или: «из-под краев пробивалась тьма и оплетала вас». Или такие игры слов, как «горбатая гора», или «шалости шелестящих растений», или «в ад лающей ночи» (то есть, надо понимать, в ночи лаяли собаки). Или «дороги были размазанные и размурзанные»… Думаю, если бы я преподавал язык иврит в университете, я бы поручил кому-нибудь из студентов составить словарь Прейгерзона. Словарь его неологизмов. Здесь уже упоминали «махасегер» («концлагерь») — я удивляюсь, почему мы не пользуемся этим прекрасно отчеканенным словом. Я составил небольшой список его слов, понадерганных бессистемно, тут и там: «забелка стен» вместо «побелка», «плетучий лес» вместо «джунгли», «большекостый парень»… Некоторые слова и сочетания он не сам придумывал, а брал редкие слова, например, из текстов средневековой Испании или других источников. У него много изумительных описаний природы, солнца, весны…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: