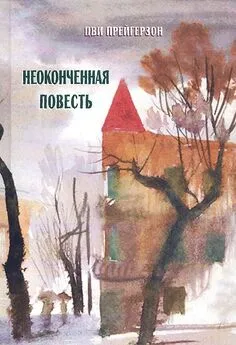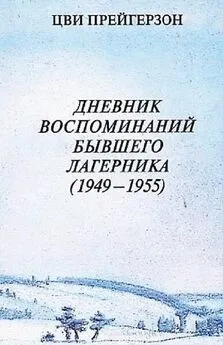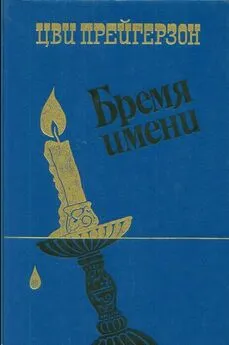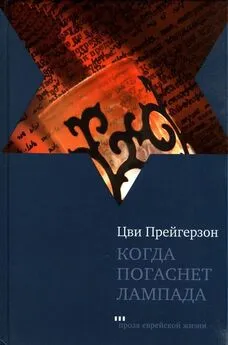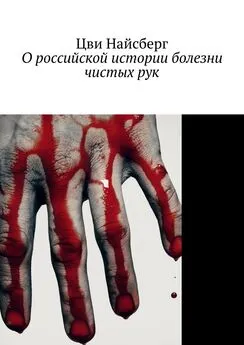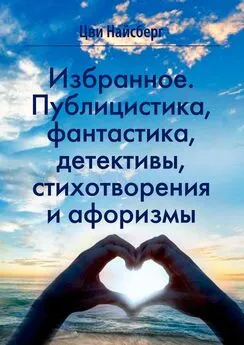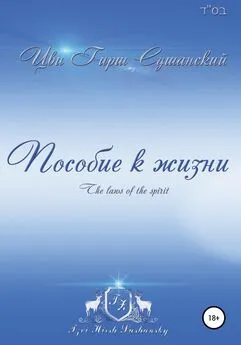Нина Липовецкая-Прейгерзон - Мой отец Цви Прейгерзон
- Название:Мой отец Цви Прейгерзон
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Филобиблон
- Год:2015
- Город:Иерусалим
- ISBN:978-965-7209-28-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Нина Липовецкая-Прейгерзон - Мой отец Цви Прейгерзон краткое содержание
Да, все это осталось; отчего же в моем сердце все еще живет щемящее чувство неудовлетворенности? Возможно, оттого, что кроме меня, некому уже рассказать о его душевных качествах, скромности, благородстве, о его мягком юморе, о его необыкновенном человеческом обаянии. Особенности его характера, сила его человеческого притяжения, которая заставляла людей тянуться к нему, где бы он ни находился — в сталинском лагере или на институтской кафедре, — именно это осталось недосказанным. А ведь это так важно! cite
Нина Липовецкая-Прейгерзон
Мой отец Цви Прейгерзон - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Начало 20-х годов, на которые пришлись первые годы жизни отца в Москве, было тревожным: бундовцы перебирались в Польшу, большевики взяли курс на замену иврита идишем. Иврит становится запрещенным языком.
Спустя какое-то время еврейская интеллигенция в нашей стране повернулась в сторону языка идиш. Пришли новые специалисты, выпускники школ, начавшие по-новому обучать детей в этих новых условиях. Загнанный, задушенный иврит молчал…
И только в одном из переулков Москвы шли спектакли «Габимы». Преследуемое ивритское слово, в полный голос звучавшее в этом единственном месте, излучало свет и грело душу. И это слово пугало врагов. И все же, как такое могло быть? Всего лишь в пяти минутах ходьбы от главного управления евсекций, — эта дверь с вызывающей надписью «Габима». Всего лишь на четвертый год после Октябрьской революции — и по-прежнему театрик на иврите? Невозможно! После стольких лет борьбы со «святым ивритом» — и вот тебе на! Выходит, что закопанный мертвец вылезает из могилы?.. Иврит в «Габиме» звучит с сефардским произношением, причем актеры так бегло говорят на нем, словно появились с ним из чрева матери. И написанные на идише пьесы Пинского и Шолом-Алейхема звучат на иврите! Перевод с языка народа на язык реакции! Ну уж, извините! Такую роскошь могут себе позволить только евреи-буржуи, купающиеся в миллионах грязных купюр. Если советский строй уничтожил «Тарбут», почему он терпит «Габгшу»? Надо ее прикрыть точно так же, как это было сделано с другими ивритскими организациями…
Но вот и новости: в Москве открывается Государственный Камерный театр на идише. Во главе театра стоят Алексей Грановский, человек с европейским образованием, художник Марк Шагал, в театр вливаются молодые свежие силы. И вскоре одна за другой пошли премьеры: «Агенты», «Ложь», «Желаем счастья» Шолом-Алейхема. Свой прекрасный и трагический путь начинает Шломо Михоэлс-Вовси. В литературу и искусство приходят талантливые имена. Это то время, когда идиш переживает свой недолгий, но великолепный период расцвета. Мы находимся в начале 20-х годов.
(«Неоконченная повесть»)К этому периоду относится такой случай. Наш дальний родственник Исраэль Савирай, попавший в Палестину еще ребенком, в начале 20-х годов посетил Советский Союз. Он решил познакомиться с отцом и пришел к нему в общежитие. Не пройдя «школу революции», наш милый родственник стал громко обсуждать на иврите взаимоотношения Бунда с другими еврейскими партиями.
Потом, будучи очень пожилым человеком, он заявил мне во время встречи в Тель-Авиве (уже после нашей репатриации): «Я встречался с вашим отцом в Москве. Он не отличался храбростью и был так напуган, что силой увлек меня в свою комнату». Сначала я опешила от такой наивности, но, поразмыслив, нашла ситуацию скорее забавной. Напротив меня сидел человек совершенно неосведомленный, искренне не представлявший себе, чем могли закончиться тогда подобные разговоры в московском студенческом общежитии!..
В конце своей жизни отец рассказывал мне, что при поступлении в Академию надо было заполнить анкету с вопросами об образовании, сословной принадлежности, семейных доходах, а также сообщить о партийной принадлежности и политических симпатиях. Отец, никогда не состоявший ни в одной партии, написал, что сочувствует Бунду. Многие годы он ждал реакции на это неосмотрительное признание, которое вполне могло закончиться арестом, а то и расстрелом. Но реакции не последовало. Отец много потом размышлял о том, как такое могло случиться. Единственное объяснение заключалось в том, что анкета попала в руки человека, знавшего отца и ценившего его, и тот просто уничтожил ее, сознавая, что подобные признания не остаются без последствий.
Продолжая тему анкет: когда, в начале 50-х, я училась в медицинском институте, мне тоже предложили заполнить анкету. Один из вопросов касался места работы родителей. Папа сидел с 1949 года, и, естественно, я стремилась скрыть этот факт. Но и неправду писать не хотелось. И я написала в соответствующей графе: «Отец с семьей не живет». Рядом сидела моя подруга, которая жила тогда вдвоем с матерью, и я полагала, что ее родители состоят в разводе. Скосив глаза в ее анкету, я увидела в той же графе точно такой же ответ: «Отец с семьей не живет». Тут уже мне трудно было сдержать улыбку: меня вдруг осенило, что причина такого ее ответа была аналогична моей.
Отца с молодого возраста многократно призывали вступить в Коммунистическую партию. Заведующим кафедрой в высшем учебном заведении мог стать в Советском Союзе только коммунист. Вступив в партию, отец без всяких усилий получил бы эту должность. Помню, как настойчиво звали его возглавить кафедру обогащения угля в Донбассе, куда он приезжал со студентами на практику. Но папа всегда отказывался от предложений подобного рода, объясняя свой отказ тем, что не считает себя вполне достойным высокого звания члена партии и предпочитает до поры до времени оставаться, как тогда говорили, «беспартийным большевиком». Разумеется, истинная причина заключалась в том, что пребывание в компартии было несовместимо с его принципами. Впрочем, служебная карьера никогда не влекла моего отца. Будучи необычайно скромным человеком, он не стремился к высоким должностям, предпочитая заниматься наукой и писать учебники и монографии.
Но при всей своей удивительной скромности, отец в то же время был человеком гармоничным в самом высоком смысле этого слова. В нем совмещались писательский талант и реалистическое художественное видение. Он с легкостью переходил от написания высокохудожественных литературных произведений к сугубо профессиональным текстам про свойства горных пород и способы брикетирования угля. А затем, отложив узкоспециальную монографию, брался за скрипку.
Но все же главным для него всегда оставался иврит. Папа прекрасно знал Тору, Талмуд, апокрифическую литературу и страстно любил свой народ и его историю. Он обладал особым обаянием и необыкновенным чувством юмора, был удивительно интересным собеседником. Яркие грани его личности и таланта сверкают на страницах его сочинений. А сочинять, как я уже говорила, он начал еще в детстве, и с тех пор, где бы ни находился, продолжал писать на своем любимом языке, на иврите.
Для меня отец заметно выделялся из любой среды, кто бы его ни окружал. Я чувствовала, что его мысли и глаза всегда устремлены к той путеводной звезде, которая освещала его дорогу до самого конца. Его поистине иррациональная тяга к ивриту носила характер страсти. В ней сплелись и боль, и восторг, и затаенное, загнанное в глубины души еврейство, от которого он никогда не отказывался. Это была ноша, которую отец осознанно и радостно взвалил на свои плечи, та поющая струна, которая не оборвалась и после его смерти, продолжив звучать в его произведениях. В «Дневнике воспоминаний» он пишет: «Уже в тюрьме я дал клятву, что не оставлю иврит, и я исполняю ее по сей день, пусть даже арестуют меня во второй и третий раз. До последнего дыхания моя любовь и вся моя душа отданы ивриту». Он любил все общины и все поколения своего рассеявшегося по миру народа Он испытывал к ним особую нежность — к этим разным, мало похожим друг на друга евреям, которые говорили на разных языках, носили разные одежды и даже по-разному произносили слово «шабат»…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: