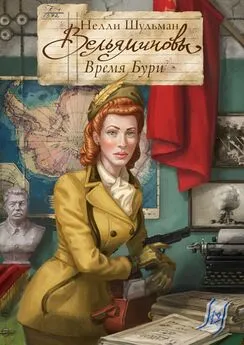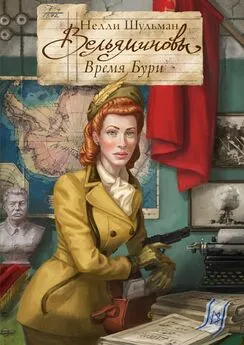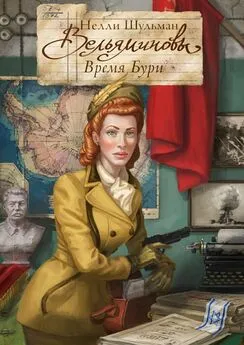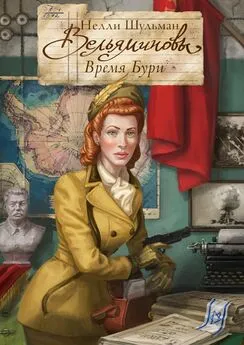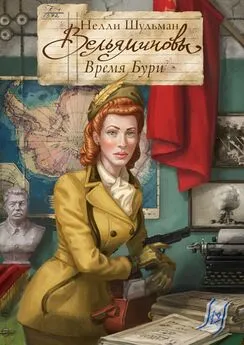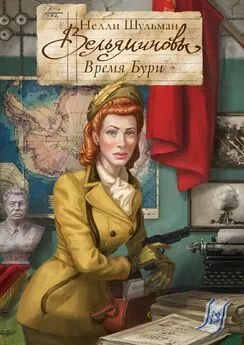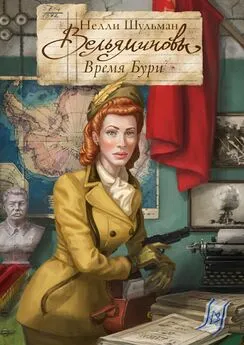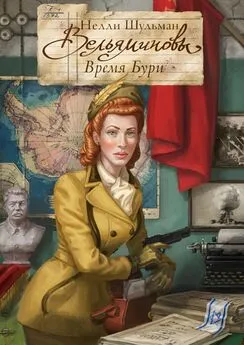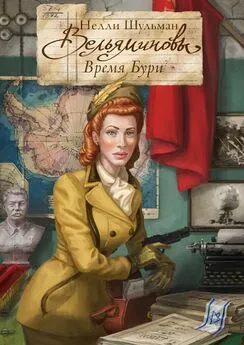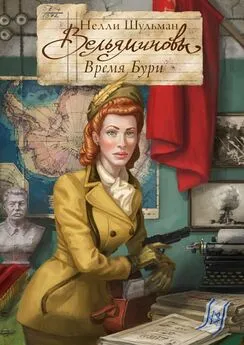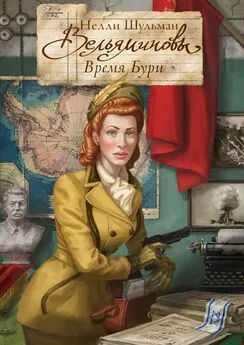Нелли Шульман - Вельяминовы. Время бури. Часть третья. Том первый
- Название:Вельяминовы. Время бури. Часть третья. Том первый
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449052605
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Нелли Шульман - Вельяминовы. Время бури. Часть третья. Том первый краткое содержание
Вельяминовы. Время бури. Часть третья. Том первый - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Он притворится своим братом, близнецом… – Илья Семенович, радушно, улыбался, – Степан пропал без вести, на войне… – Берия запретил упоминать в радиограмме об истории с так называемым полковником Вороновым. Эйтингон с ним согласился:
– Сделаем вид, что Воронов, после ранений, вернулся в авиацию и… – Наум Исаакович повел рукой, – как говорится, во многих знаниях, многие печали… – об истинном лице полковника Воронова знали только несколько человек. О ребенке Паука вообще имели представление трое:
– Я, Лаврентий Павлович и Иосиф Виссарионович… – Эйтингон, еще раз, перечитал радиограмму, – пусть так и остается. Но Петр может вернуться, за своим ублюдком. Он любил мальчишку, всегда с ним носился… – в Караганду ушло распоряжение держать воспитанника Иванова под строгим контролем. Мальчишку пока не забили до смерти. Впрочем, Наум Исаакович распорядился не делать из него инвалида:
– Напал с заточкой на учащихся старших классов, матерится, курит… – Наум Исаакович буркнул:
– Он точно не в Петра такой. Потомок герцогов Экзетеров… – Эйтингон понятия не имел, знает ли нынешний герцог Экзетер, где находится его племянник. Поручать Стэнли выяснить такие сведения, было подозрительно. Паука Наум Исаакович вмешивать в дело не хотел:
– Это тоже опасно, не надо рисковать мальчиком… – Эйтингон не сомневался, что покойная Антонина Ивановна, мистер Френч, связалась с братом из Куйбышева, через английских дипломатов:
– Учитывая, что отец ее под Воронова и подложил… – Эйтингон, едва сдержал ругательство, – конечно, брат все знает. Неизвестно, какую подметную книжонку она об СССР написала… – он был уверен, что мистер Френч, одной рукой строча материалы для сборников НКВД, другой рукой выстукивал на машинке грязный пасквиль:
– Сейчас на западе ничего не напечатают, война только закончилась… – он рассматривал хмурое лицо бритого наголо воспитанника Иванова. Парень не вылезал из синяков и ссадин:
– Сейчас не напечатают, а потом издадут ее писания… – Эйтингон ткнул окурком сигары в пепельницу:
– Черт бы подрал Антонину Ивановну, с ее отродьем… – Иванов был нужен, как приманка, для Воронова и собственного дяди:
– Он на Петра не похож, – подумал Эйтингон, – на мать, немного, но больше еще на кого-то. Ладно… – он убрал фото, – пусть визитеры появятся, а с Ивановым мы разберемся… – по возвращении комиссара госбезопасности Журавлева из Берлина его должны были предупредить о будущем визите герцога. Эйтингон считал, что коллега, как он, смешливо, называл Экзетера, не воспользуется официальными каналами:
– Он перейдет границу нелегально, захочет вывезти ребенка из СССР. Володя, все-таки, английский гражданин, наследник титула… – Эйтингону тоже предстояла поездка за детьми, только на запад, в католическую обитель в Требнице, под освобожденным Бреслау:
– Но Петр может воспользоваться своим близнецом… – он почесал седоватый висок, – явиться в посольство, выдать себя за Степана… – Илья Семенович, на хорошем, шведском языке, сказал:
– Рад визиту, господин Равенсон… – присев к столу, он вернул гостю паспорт: «Чем могу служить?».
Теплый ветер шевелил развешанные по стенам, довоенные плакаты Аэрофлота. Бывший соученик, власовский прихвостень, заочно приговоренный к смертной казни, за измену родине, молчал. Лазоревые глаза, пристально, внимательно, смотрели на Чернышева:
– Меня зовут полковник Степан Семенович Воронов, – наконец, ответил он, по-русски: «Я бы хотел вернуться на родину».
Часть первая
Польша, июнь 1945
Бреслау
Временная администрация Нижней Силезии заняла почти не тронутое артиллерийским обстрелом здание городской ратуши, на Рыночной площади. Над башенками вилось два флага, советский, красный, с серпом и молотом, и польское, двухцветное знамя.
Поляков в городе жило всего два десятка тысяч. Знамя повесили доставленные советскими войсками, с востока, польские коммунисты. Двести тысяч немцев Бреслау, понемногу, покидали город. Телеги тянулись по западной дороге. По обочинам, с детьми на руках, ковыляли усталые женщины. Ходили слухи, что, после будущей конференции в Потсдаме, Нижняя Силезия достанется Польше:
– В Восточной Пруссии русские немцев вырезали, – мрачно шептались в очередях, – а здесь поляки всем займутся. Поляки нас всегда ненавидели… – в проемах окон, разрушенных бомбежками и артиллерией домов, ветер колыхал грязные, закопченные, белые простыни, знаки безоговорочной капитуляции гарнизона Бреслау.
Ходили слухи, что в польской администрации составляют списки немцев, подлежащих ссылке в советские лагеря. Аресту подлежали владельцы магазинов и пивных, фермеры, священники, бывшие члены НСДАП. Жители Бреслау, не дожидаясь чисток, предусмотрительно уезжали на запад. Границы между оккупационными зонами пока не существовало. Союзники, беспрепятственно, пропускали беженцев на свою территорию. Все боялись, что после конференции в Потсдаме положение изменится. Люди торопились сбежать из советской оккупационной зоны. По западной дороге брели и бывшие трудовые резервы, французы и бельгийцы, возвращающиеся домой, и люди, угнанные на работу в рейх из Украины и Белоруссии. Железную дорогу на восток пока восстанавливали, но, судя по всему, в сторону СССР никто не собирался.
Поезда в Бреслау еще не прибывали, но у развалин вокзала, на временном базаре, крутились люди. Ветер носил по заплеванной мостовой шелуху, от семечек. В городе еще пахло гарью. От центра остались только закопченные камни. Власовцы, защищавшие Бреслау, просидели в котле, окруженные советскими войсками, до самой капитуляции Германии. Зная о своей будущей судьбе, в руках русских, соединения коллаборационистов цеплялись зубами за каждый дом и подвал.
Даже сейчас, через месяц после сдачи города, в развалинах, каждый день, кто-то подрывался на оставленных власовцами минах. На остатках стен, спешно написали, жирной, алой краской: «Опасно, проход запрещен!». Оборванные мальчишки, все равно, шныряли по брошенным, разоренным квартирам, в поисках провизии или ценностей.
На рынке, у бывшего вокзала, из-под полы продавали золото, наркотики из госпиталей вермахта, тушенку и водку, из пайка советских солдат и американские сигареты, из союзной зоны оккупации. Подростки, с номерами на худых руках, отирались рядом со степенными, взрослыми парнями. Те подпирали стенки, надвинув кепки на лоб, покуривая, внимательно осматривая толпу. Вечером парни приходили в питейные заведения.
Советская администрация пока разрешила свободную торговлю. Провизию выдавали по временным карточкам. Немецкие марки никому нужны не были. В пивных рассчитывались советскими рублями, редкими, американскими долларами, а то и куском сала или банкой тушенки. Трофейные команды русских, объезжали окрестные имения и монастыри, в поисках хорошей живописи, и дорогой мебели. Железнодорожные пути пока чинили, но на сохранившейся колее стояли охраняемые вагоны, куда русские сгружали добычу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: