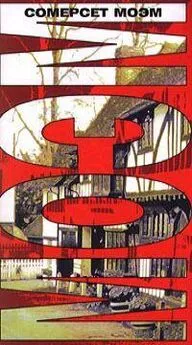Уильям Фолкнер - Авессалом, Авессалом! английский и русский параллельные тексты
- Название:Авессалом, Авессалом! английский и русский параллельные тексты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Уильям Фолкнер - Авессалом, Авессалом! английский и русский параллельные тексты краткое содержание
Авессалом, Авессалом! английский и русский параллельные тексты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я его и не ждала; наверно, я уже тогда не ожидала, что Джудит мне ответит, - так ребенок, еще не успев понять, что именно его напугало (прежде чем ужас окончательно лишит его способности рассуждать), зовет на помощь родителей, хотя и совершенно точно знает, что их здесь нет и что они его не слышат.
| I was crying not to someone, something, but (trying to cry) through something, through that force, that furious yet absolutely rocklike and immobile antagonism which had stopped me-that presence, that familiar coffee-colored face, that body (the bare coffee-colored feet motionless on the bare floor, the curve of the stair rising just beyond her) no larger than my own which, without moving, with no alteration of visual displacement whatever (she did not even remove her gaze from mine for the reason that she was not looking at me but through me, apparently still musing upon the open door's serene rectangle which I had broken) seemed to elongate and project upward something-not soul, not spirit, but something rather of a profoundly attentive and distracted listening to or for something which I myself could not hear and was not intended to hear-a brooding awareness and acceptance of the inexplicable unseen, herited from an older and a purer race than mine, which created postulated and shaped in the empty air between us that which I believed I had come to find (nay, which I must find, else breathing and standing there, I would have denied that I was ever born)-that bedroom long-closed and musty, that sheetless bed (that nuptial couch of love and grief) with the pale and bloody corpse in its patched and weathered gray crimsoning the bare mattress, the bowed and unwived widow kneeling beside it-and I (my body) not stopping yet (yes, it needed the hand, the touch, for that)-I self-mesmered fool who still believed that what must be would be, could not but be, else I must deny sanity as well as breath, running, hurling myself into that inscrutable coffeecolored face, that cold implacable mindless (no, not mindless: anything but mindless: his own clairvoyant will tempered to amoral evil's undeviating absolute by the black willing blood with which he had crossed it) replica of his own which he had created and decreed to preside upon his absence, as you might watch a wild distracted nightbound bird flutter into the brazen and fatal lamp. | Я взывала не к кому-то, не к чему-то, я пыталась (криком) пробиться сквозь что-то, сквозь это противодействие, сквозь эту яростную, недвижимую, твердую как скала, враждебную мне силу, которая заставила меня остановиться: сквозь это виденье, это знакомое кофейное лицо, сквозь это тело (кофейные босые ноги неподвижно застыли на голом полу, а позади поднимался изгиб винтовой лестницы), не больше моего, которое совсем не шевелилось, ничуть не перемещалось в пространстве (она даже не отвела от меня взгляда, потому что смотрела не на меня, а сквозь меня, очевидно, все еще раздумывая о том, как мое вторжение нарушило цельность четырехугольника открытой двери), а, казалось, растягивалось, отбрасывая вверх что-то непостижимое - не душу, не дух, а скорее нечто такое, что с напряженным вниманием прислушивалось к чему-то для меля недоступному и недозволенному, постигая и воспринимая какую-то невидимую тайну, унаследованную от расы более древней и чистой, нежели моя, и именно благодаря этому в разделяющей нас пустоте возникло то, что я ожидала здесь найти (да, непременно должна была найти, а иначе - хоть я там и была и дышала, мне пришлось бы усомниться, родилась ли я вообще когда-либо на свет) - эта давным-давно запертая душная спальня, эта не застланная простыней постель (супружеское ложе любви и скорби), бледный окровавленный труп в залатанном выцветшем сером мундире, алую кровь на голом матрасе, коленопреклоненная невенчанная вдова - меж тем как я (вернее, моя телесная оболочка) еще не остановилась (для этого требовалось прикосновение, рука), я, безрассудная жертва самовнушенья, все еще верила: то, что должно быть, будет, не может не быть, а иначе мне пришлось бы усомниться не только в своей жизни, но и в своем здравом уме; я бегу, бросаюсь на это непроницаемое кофейное лицо, на эту холодную, беспощадную, бессмысленную (нет, только не бессмысленную, все что угодно, только не бессмысленную - ведь черная податливая кровь, которую он оплодотворил, взяла от него ясновидящую волю и разбавила его абсолют безнравственного зла) копию его лица, которую он породил и которой повелел распоряжаться здесь в его отсутствие; бросаюсь, как обезумевшая ночная птица, что стремглав несется на роковой свет железного фонаря. |
| 'Wait,' she said. | "Постой, сказала она. |
| ' Dont you go up there." | - Не ходи наверх". |
| Still I did not stop; it would require the hand; and I still running on, accomplishing those last few feet across which we seemed to glare at one another not as two faces but as the two abstract contradictions which we actually were, neither of our voices raised, as though we spoke to one another free of the limitations and restrictions of speech and hearing. ' What?" I said. | Но я еще не остановилась - для этого нужна была рука; я все еще бежала, стремясь преодолеть последние несколько футов, через которые мы смотрели друг на друга - не как два человека, а как два противоположных абстрактных понятия, какими мы, в сущности, и были; ни та, ни другая не повышала голоса, словно каш разговор велся независимо от речи и от слуха. "Что?" - спросила я. |
| 'Dont you go up there, Rosa." | "Не ходи наверх, Роза". |
| That was how she said it: that quiet that still, and again it was as though it had not been she who spoke but the house itself that said the words-the house which he had built, which some suppuration of himself had created about him as the sweat of his body might have produced some (even if invisible) cocoon-like and complementary shell in which Ellen had had to live and die a stranger, in which Henry and Judith would have to be victims and prisoners, or die. | Она проговорила это так спокойно, так тихо, что мне опять почудилось, будто эти слова произнесла не она, а самый этот дом, который он построил, который вырос на нем как гнойник -таким же образом из его собственного пота могла бы образоваться какая-то (пусть даже невидимая) оболочка, кокон, в котором Эллен пришлось жить и умереть чужой для всех, в котором Генри и Джудит придется быть пленниками, жертвами или умереть. |
| Because it was not the name, the word, the fact that she had called me Rosa. | Дело было не в слове, не в имени, не в том, что она назвала меня просто Розой. |
| As children she had called me that, just as she had called them Henry and Judith; I know that even now she still called Judith (and Henry too when she spoke of him) by her given name. And she might very naturally have called me Rosa still, since to everyone else whom I knew I was still a child. | Когда мы были детьми, она называла просто по имени не только меня, но и Генри и Джудит; я знала, что даже и теперь она называет Джудит, да и Генри, если речь заходит о нем, просто по имени. |
| But it was not that. | И она вполне могла бы. все еще называть меня Роза, а не мисс Роза - ведь для всех моих знакомых я все еще оставалась ребенком. |
| That was not what she meant at all; in fact, during that instant while we stood face to face (that instant before my still advancing body should brush past her and reach the stair) she did me more grace and respect than anyone else I knew; I knew that from the instant I had entered that door, to her of all who knew me I was no child. | Дело было не в этом. |
| ' Rosa?" | Она совсем не хотела меня обидеть - ведь, в сущности, в ту секунду, когда мы стояли лицом к лицу (за секунду до того, как мое все еще бегущее тело минует ее и взбежит на лестницу), она выказала мне больше почтительности и уважения, чем кто-либо из моих знакомых; я знала, что с той секунды, как я появилась в дверях, для нее, единственной из всех моих знакомых, я перестала быть ребенком. |
| I cried. | "Роза? вскричала я. |
| ' To me? | - Ты смеешь называть меня Розой? |
| To my face?" | В лицо?" |
| Then she touched me, and then I did stop dead. | Тут она коснулась меня рукой, и тут я наконец остановилась. |
| Possibly even then my body did not stop, since I seemed to be aware of it thrusting blindly still against the solid yet imponderable weight (she not owner: instrument; I still say that) of that will to bar me from the stairs; possibly the sound of the other voice, the single word spoken from the stairhead above us, had already broken and parted us before it (my body) had even paused. | Возможно, мое тело не остановилось даже и тогда - мне показалось, будто я чувствую, как оно слепо бросается на тяжелый, но невесомый сгусток той воли (не ее воли, я и поныне утверждаю, что она служила лишь орудием), которая не подпускала меня к лестнице; возможно, еще прежде, чем оно (мое тело) могло успеть остановиться, нас объединил, отбросил друг от друга звук другого голоса, одно-единственное слово, раздавшееся с верхней площадки. |
| I do not know. | Не знаю. |
| I know only that my entire being seemed to run at blind full tilt into something monstrous and immobile, with a shocking impact too soon and too quick to be mere amazement and outrage at that black arresting and untimorous hand on my white woman's flesh. | Знаю только, что все мое существо слепо ринулось вперед и со всего размаху натолкнулось на что-то чудовищное и неподвижное, и чувство изумления и возмущения, которое я испытала, было слишком неожиданным и сильным, чтоб его могло вызвать простое прикосновение черной руки, которая, желая меня остановить, бесстрашно коснулась моей руки - руки белой женщины. |
| Because there is something in the touch of flesh with flesh which abrogates, cuts sharp and straight across the devious intricate channels of decorous ordering, which enemies as well as lovers know because it makes them both-touch and touch of that which is the citadel of the central I-Am's private own: not spirit, the liquorish and ungirdled mind is anyone's to take in any darkened hallway of this earthly tenement. | Ибо прикосновение плоти к плоти мгновенно перерезает, разрубает хитроумное сплетение ниточек этикета и условностей; это хорошо знают и любовники и враги, ибо только прикосновение делает из человека любовника или врага, - да, прикосновение, прикосновение к цитадели, в которой скрывается самый центр нашего бытия, наше сокровенное Я Есмь, а не душа, не дух, ведь разум, как похотливая и алчная тварь, готов отдаться первому встречному в любом темном закоулке нашего земного обиталища. |
| But let flesh touch with flesh, and watch the fall of all the eggshell shibholeth of caste and color too. | Но стоит только плоти соприкоснуться с плотью, и вы увидите, как отпадет скорлупа всех предрассудков касты и цвета кожи. |
| Yes, I stopped dead no woman's hand, no Negro's hand, but bitted bridle-curb to check and guide the furious and unbending will-I crying not to her, to it; speaking to it through the Negro, the woman, only because of the shock which was not yet outrage because it would be terror soon, expecting and receiving no answer because we both new it was not to her I spoke:' Take your hand off me, nigger!" | Да, я остановилась как вкопанная - мне преградила путь не рука женщины, не рука негритянки, а невидимая рука того, кто держал в узде эту свирепую непреклонную волю, - я взывала не к ней, а к нему, к нему обращалась я через эту женщину, эту негритянку - на меня словно бы нашел столбняк, который еще не вылился в возмущенье, потому что скоро должен был, превратиться в ужас, я не ждала и не получила ответа - ведь мы обе знали, что не к ней были обращены мои слова: "Руки прочь, черномазая!" |
| I got none. | Ответа не было. |
| We just stood there-I motion the attitude and action of running, she rigid in that furious immobility, the two of us joined by that hand and arm which held us, like a fierce rigid umbilical cord, twin sistered to the fell darkness which had produced her. | Мы просто стояли - я как бы замерла на бегу, она застыла в зловещей неподвижности; и эта рука, словно туго натянутая пуповина, держала нас обеих, как двух близнецов-сестер породившей ее жуткой тьмы. |
| As a child I had more than once watched her and Judith and even Henry scuffing in the rough games which they (possibly all children; I do not know) played, and (so I have heard) she and Judith even slept together, in the same room but with Judith in the bed and she on a pallet on the floor ostensibly. | Ребенком я не раз видела, как она, Джудит, и даже Генри возились и дрались (возможно, так играют все дети, я просто этого не знаю) и (как мне говорили) она и Джудит даже спали вместе в одной комнате, только Джудит спала в кровати, а она, по всей вероятности, на соломенном тюфяке на полу. |
| But I have heard how on more than one occasion Ellen has found them both on the pallet, and once in the bed together. | Но я слышала, что Эллен не раз находила их обеих на тюфяке, а однажды нашла вместе в кровати. |
| But not I Even as a child, would not even play with the same objects which she and Judith played with, as though that warped and spartan solitude which I called my childhood, which had taught me (and little else) to listen before I could comprehend and to understand before I even heard, had also taught me not only to instinctively fear her and what she was, but to shun the very objects which she had touched. | Но со мной ничего подобного быть не могло. Даже ребенком я ни за что не хотела играть теми игрушками, которыми играли они с Джудит, словно уродливое спартанское одиночество, которое я называла своим детством, научившее меня слушать (и пожалуй, больше ничему), прежде чем я начала что-либо сознавать и понимать слова еще до того, как я их услыхала, научило меня не только инстинктивно бояться ее и того, чем она была, но избегать даже вещей, к которым она прикасалась. |
| We stood there so. | Вот так мы там и стояли. |
| And then suddenly it was not outrage that I waited for, out of which I had instinctively cried; it was not terror: it was some cumulative overreach of despair itself. | И вдруг я поняла, что кричу не от возмущения, не от ужаса, а от накопившегося во мне, бившего через край отчаянья. |
| I remember how as we stood there joined by that volitionless (yes: it too sentient victim just as she and I were) hand, I cried-perhaps not aloud, not with words (and not to Judith, mind: perhaps I knew already, on the instant I entered the house and saw that face which was at once both more and less than Sutpen, perhaps I knew even then what I could not, would not, must not believe)-I cried | Я помню, что когда мы там стояли, соединенные этой безвольною рукой (да, эта рука была такой же страдающей жертвой, как я и как она), я крикнула - быть может, не вслух, не словами (и, заметьте, я обращалась не к Джудит; быть может, едва я вошла в этот дом и увидела это лицо -одновременно и нечто большее, и нечто меньшее, чем Сатпен, - быть может, даже тогда я уже знала то, чему не могла, не хотела, не должна была верить), я крикнула: |
| ' And you too? | "И ты тоже? |
| And you too, sister, sister?" | И ты тоже, сестра, сестра?" |
| What did I expect? | Чего я ждала? |
| I, self-mesmered fool, come twelve miles expecting what? | Я, безрассудная жертва самовнушенья, приехавшая сюда за двенадцать миль, чего я ждала? |
| Henry perhaps, to emerge from some door which knew his touch, his hand on the knob, the weight of his foot on a sill which knew that weight: and so to find standing in the hall a small plain frightened creature whom neither man nor woman had ever looked at twice, whom he had not seen himself in four years and seldom enough before that but whom he would recognize if only because of the worn brown silk which had once become his mother and because the creature stood there calling him by his given name? | Быть может, я ждала, что Генри сейчас появится из какой-нибудь двери, знакомой с его прикосновением, возьмется рукой за щеколду, переступит через порог, знакомый с тяжестью его ноги, и найдет в прихожей маленькое, жалкое, испуганное существо, на которое еще никто на свете не взглянул дважды, которого он сам уже четыре года не видел, да и раньше встречал не очень часто, но которое тотчас же узнает, хотя бы по изношенному коричневому шелковому платью, некогда принадлежавшему его матери, и еще по тому, что это существо назовет его по имени? |
| Henry to emerge and say | Что Генри появится и скажет: |
| 'Why, it's Rosa, Aunt Rosa. wake up, Aunt Rosa; wake up'?-I, the dreamer clinging yet to the dream as the patient clings to the last thin unbearable ecstatic instant of agony in order to sharpen the savor of the pain's surcease, waking into the reality, the more than reality, not to the unchanged and unaltered old time but into a time altered to fit the dream which, conjunctive with the dreamer, becomes immolated and apotheosied: | "Да ведь это Роза, тетя Роза. Проснись, тетя Роза, проснись"? И я, спящая, что все еще цепляется за сон - так тяжелобольной исступленно цепляется за последний скоротечный миг невыносимой смертной муки, чтобы острее вкусить восторг, когда отпустит боль, - я пробужусь к действительности и даже, более того, не к неизменным, нетронутым старым временам, а к новым, что изменились под стать тому сну, который, слившись воедино с самим спящим, превращается в божество или святыню: |
| 'Mother and Judith are in the nursery with the children, and Father and Charles are walking in the garden. | "Мама и Джудит с детьми, а папа и Чарльз гуляют в саду. |
| Wake up, Aunt Rosa; wake up'? | Проснись, тетя Роза, проснись"? |
| Or not expect perhaps, not even hope; not even dream since dreams don't come in pairs, and had I not come twelve miles drawn not by mortal mule but by some chimera-foal of nightmare's very self? (Ay, wake up, Rosa; wake up-not from what was, what used to be, but from what had not, could not have ever, been; wake, Rosa-not to what should, what might have been, but to what cannot, what must not, be; wake, Rosa, from the hoping, who did believe there is a seemliness to bereavement even though grief be absent; believed there would be need for you to save not love perhaps, not happiness nor peace, but what was left behind by widowing-and found that there was nothing there to save; who hoped to save her as you promised Ellen (not Charles Bon, not Henry: not either one of these from him or even from one another) and now too late, who would have been too late if you had come there from the womb or had been there already at the full strong capable mortal peak when she was born; who came twelve miles and nineteen years to save what did not need the saving, and lost instead yourself) I do not know, except that I did not find it. | Но может быть, я ничего не жду, ни на что не надеюсь, даже не вижу никаких снов, потому что сны не приходят парами, и разве не приехала я сюда, за двенадцать миль, не на живом, подвластном смерти муле, а на кошмарном химерическом отродье самой ночи? Да, проснись, Роза, проснись, пробудись ото сна - не о былом, а о том, чего не было и не могло быть никогда; проснись, Роза, - не к тому, что будет и могло бы быть, а к тому, чего быть не может и не будет; проснись. Роза, оставь свои надежды; ведь ты верила, что существует видимость скорби, даже если самой скорби нет; ведь ты думала, что нужно спасать - если не любовь, не счастье и не мир, то хотя бы безутешную вдову, и нашла, что спасать тебе здесь нечего; ты надеялась спасти ее, как обещала Эллен (не Чарльза Бона и не Генри -никто из них не нуждался в защите от него или даже друг от друга), но было уже слишком поздно; живи ты там даже с тех пор, как вышла из чрева матери, или достигни уже полного расцвета сил человеческих, когда родилась на свет она, -все равно было бы слишком поздно; ты преодолела путь длиной в двенадцать миль и девятнадцать лет,, желая спасти нечто, что не нуждалось в спасенье, и вместо этого потеряла самое себя. Не знаю, знаю только, что этого я не нашла. |
| I found only that dream-state in which you run without moving from a terror in which you cannot believe, toward a safety in which you have no faith, held so not by the shifting and foundationless quicksand of nightmare but by a face which was its soul's own inquisitor, a hand which was the agent of its own crucifixion, until the voice parted us, broke the spell. | Я обрела лишь состоянье сна, когда, не двигаясь с места, бежишь от ужаса, в который невозможно верить, к безопасности, которая не внушает ни малейшего доверия, и в этом состоянии меня держали не зыбкие сыпучие пески кошмара, а лицо, ставшее мучителем собственной души, рука, сама пригвоздившая себя к кресту; держали до тех пор, пока тот самый голос нарушил эти чары и нас разъединил. |
| It said one word: ' Clytie." like that, that cold, that still: not Judith, but the house itself speaking again, though it was Judith's voice. | Он произнес всего одно лишь слово: "Клити", -вот так, так холодно, так тихо, но хотя голос принадлежал Джудит, им говорила не она, а опять сам этот дом. |
| Oh, I knew it well, who had believed in grieving's seemliness; I knew it as well as she-Clytie-knew it. | О, я отлично это знала, я, верившая, в видимость скорби, знала это не хуже, чем она - Клити. |
| She did not move; it was only the hand, the hand gone before I realized that it had been removed. | Она не шевельнулась, не стало лишь руки - даже прежде, чем я осознала, что руку отняли. |
| I do not know if she removed it or if I ran out from beneath its touch. | Я не знаю, то ли руку отняла она, то ли я сама из-под нее выбежала. |
| But it was gone; and this too they cannot tell you: How I ran, fled, up the stairs and found no grieving widowed bride but Judith standing before the closed door to that chamber, in the gingham dress which she had worn each time I had seen her since Ellen died, holding something in one hanging hand; and if there had been grief or anguish she had put them too away, complete or not complete I do not know, along with that unfinished wedding dress. ' Yes, Rosa?" she said, like that again, and I stopped in running's midstride again though my body, blind unsentient barrow of deluded clay and breath, still advanced: And now I saw that what she held in that lax and negligent hand was the photograph, the picture of herself in its metal case which she had given him, held casual and forgotten against her flank as any interrupted pastime book. | Только руки не стало, а вот что было дальше, вам тоже не смогут рассказать: как я помчалась, взбежала вверх по лестнице и нашла не скорбную молодую вдову, а Джудит - она стояла перед закрытой дверью в ту комнату, на ней было то самое бумажное платье, в котором она всегда ходила после смерти Эллен; стояла и держала в опущенной руке какую-то вещицу, и если она испытывала боль и горе, она их спрятала - совсем или частично, я не знаю - вместе с недошитым подвенечным платьем. "Что, Роза?" - произнесла она тем же голосом, и я опять застыла на бегу, хотя мое тело, эта кучка слепого, бесчувственного, обманутого дыхания и праха, все еще двигалось вперед. Вам не расскажут и о том, что в этой вялой, безучастно повисшей руне я увидела фотографию, ее собственный портрет в медальоне, который она сама ему подарила; она держала его бездумно и небрежно, как держат захлопнутую на полуслове пустую развлекательную книжку. |
| That's what I found. | Вот что я нашла. |
| Perhaps it's what I expected, knew (even at nineteen knew, I would say if it were not for my nineteen, my own particular kind of nineteen years) that I should find. | Быть может, я этого и ожидала, знала (я сказала бы, что знала даже в девятнадцать лет, если бы речь шла не о моих особых девятнадцати годах), что должна это найти. |
| Perhaps I couldn't even have wanted more than that, couldn't have accepted less, who even at nineteen must have known that living is one constant and perpetual instant when the arras-veil before what-is-to-be hangs docile and even glad to the lightest naked thrust if we had dared, were brave enough (not wise enough: no wisdom needed here) to make the rending gash. | Быть может, ничего большего я не могла бы желать, ничего меньшего не могла бы принять: ведь даже в девятнадцать лет я, наверное, уже знала, что жизнь - одно лишь непрерывное и бесконечное мгновенье, когда узорная завеса, скрывающая то, чему суждено случиться, покорно и даже с радостью ждет легчайшего небрежного рывка, который - стоит нам только посметь, набраться храбрости (не мудрости, она здесь ни при чем) - тотчас ее бы разорвал. |
| Or perhaps it is no lack of courage either: not cowardice which will not face that sickness somewhere at the prime foundation of this factual scheme from which the prisoner soul, miasmal-distillant boils ever upward sunward, tugs its tenuous prisoner arteries and veins and prisoning in its turn that spark, that dream which, as the globy and complete instant of its freedom mirrors and repeats (repeats? creates, reduces to a fragile evanescent iridescent sphere) all of space and time and massy earth, relicts the seething and anonymous miasmal mass which in all the years of time has taught itself no boon of death but only how to recreate, renew; and die, is gone, vanished: nothing-but is that true wisdom which can comprehend that there is a might-have-been which is more true than truth, from which the dreamer, waking, says not' Did I but dream?" but rather says, indicts high heaven's very self with: ' Why did I wake since waking I shall never sleep again?" | Но, быть может, здесь дело не в боязни, которая признать боится, что где-то в самом основанье системы бытия таится порча, и пленница-душа, от ядовитых испарений очищаясь, всегда стремится ввысь, навстречу солнцу и тянет за собой иссохшие за время заточенья артерии и вены; а у души в плену томится эта искра, этот сон, который, вырвавшись наружу, в прекрасный округлый миг своей свободы отражает и повторяет (повторяет? нет, творит, преобразует в хрупчайшую сверкающую сферу, живущую мгновенье) весь космос, время все, тяжелую всю землю и оставляет за собой внизу кишащую миазмами безликую людскую массу, которая за время всех времен не научилась благу смерти, а знает лишь, как размножаться и плодиться, -творит и умирает, уходит прочь, в небытие, в ничто... но можно ли назвать истинной мудростью нечто, способное постигнуть, что существует некая несбывшаяся возможность, более истинная, чем сама истина, о которой спящий, пробудившись, не скажет: "Неужто это был всего лишь только сон?" - а, осуждая сами небеса, возопиет: "Зачем же я проснулся, коль никогда уж больше не усну?" |
| Once there was-Do you mark how the wistaria, sunimpacted on this wall here, distills and penetrates this room as though (lightunimpeded) by secret and attritive progress from mote to mote of obscurity's myriad components? | Однажды... Чувствуете ли вы, как аромат глициний, прижатых солнцем к наружной стене, проникает, сочится к нам в комнату, словно его (без помехи света) вносит сюда незаметное глазу движенье, трение бесчисленных мельчайших частичек тьмы? |
| That is the substance of remembering-sense, sight, smell: the muscles with which we see and hear and feel not mind, not thought: there is no such thing as memory: the brain recalls just what the muscles grope for: no more, no less; and its resultant sum is usually incorrect and false and worthy only of the name of dream. -See how the sleeping outflung hand, touching the bedside candle, remembers pain, springs back and free while mind and brain sleep on and only make of this adjacent heat some trashy myth of really's escape: or that same sleeping hand, in sensuous marriage with some dulcet surface, is transformed by that same sleeping brain and mind into that same figment-stuff warped out of all experience. | Это и есть сущность воспоминанья - чувство, зрение, обоняние, мышцы, посредством которых мы видим, слышим, осязаем, - не сознание, не мысль: памяти не существует, мозг воспроизводит только то, что слепо нащупывают мышцы, не больше и не меньше, и результат, как правило, неверен, ошибочен и достоин называться лишь сном. Посмотрите, как протянутая во сне рука, коснувшись стоящей у постели свечи, отдергивается в инстинктивном стремлении избавиться от боли, меж тем как сознание и мозг продолжают спать и воспринимают этот жар лишь как некий знак спасения от реальной угрозы или как ту же руку, соприкоснувшуюся во сне с какой-либо нежной и гладкой поверхностью, то же спящее сознание и мозг превращают в такой же, лишенный материальной субстанции плод воображенья, находящийся за пределами всякого чувственного опыта. |
| Ay, grief goes, fades; we know that-but ask the tear ducts if they have forgotten how to weep. | Да, горе проходит, угасает, мы это знаем, но спросите слезные протоки, разучились ли они плакать... |
| -Once there was (they cannot have told you this either) a summer of wistaria. | Однажды летом буйно цвели глицинии (об этом вам тоже вряд ли кто-нибудь расскажет), буйно цвели глицинии. |
| It was a pervading everywhere of wistaria (I was fourteen then) as though of all springs yet to capitulate condensed into one spring, one summer: the spring and summertime which is every female's who breathed above dust, beholden of all betrayed springs held over from all irrevocable time, repercussed, bloomed again. | Везде струился аромат глициний (мне было тогда четырнадцать лет), как будто каждая весна и лето грядущего соединились; слились воедино в одну весну, в одно-единственное лето - в весну и лето, достоянье каждой женщины, что когда-либо дышала над земным тленом, и вновь зазеленели, зацвели, чтоб наверстать каждую упущенную в глубине веков, обманувшую надежды необратимую весну. |
| It was a vintage year of wistaria: vintage year being that sweet conjunction of root bloom and urge and hour and weather,' and I (I was fourteen)-I will not insist on bloom, at whom no man had yet to look-nor would ever-twice, as not as child but less than even child; as not more child than woman but even as less than any female flesh. | Г од выдался на редкость благодатный для глициний; погода, час появления побегов из корней, их бурного порыва и цветенья соединились в редкостной удаче, но я (мне было четырнадцать лет) не стану говорить вам о цветенье, ведь на меня еще ни разу ни один мужчина не взглянул - и никогда не взглянет -дважды; я не ребенок, а нечто меньшее, чем ребенок, не женщина, а нечто даже меньшее, чем существо женского пола. |
| Nor do I say leaf-warped bitter pale and crimped half-fledging intimidate of any claim to green which might have drawn to it the tender mayfly childhood sweetheart games or given pause to the male predacious wasps and bees of later lust. | Не стану говорить я и о листьях - я, жалкий, бледный, хрупкий, полу распустившийся листок, чересчур пугливый и робкий, чтобы привлечь к себе нежного майского мотылька, товарища любовных детских игр, или дать отдых сладострастным хищникам - пчелам и осам. |
| But root and urge I do insist and claim, for had I not heired too far all the unsistered Eves since the Snake? | Однако о порыве и корне я упомяну ведь разве не была и я наследницей каждой лишенной сестер Евы со времен искусителя-змея? |
| Yes, urge I do: warped chrysalis of what blind perfect seed: for who shall say what gnarled forgotten root might not bloom yet with some globed concentrate more globed and concentrate and heady-perfect because the neglected root was planted warped and lay not dead but merely slept forgot? | Да, я распускалась - жалкий бутон неведомого семени, ибо кто станет утверждать, что какой-нибудь кривой забытый корень в один прекрасный день не пустит ростков и не покроется роскошными и яркими цветами лишь потому, что этот шишковатый корень не погиб, а просто, позабытый всеми, спал? |
That was the miscast summer of my barren youth which (for that short time, that short brief unreturning springtime of the female heart) I lived out not as a woman, a girl, but rather as the man which I perhaps should have been. I was fourteen then, fourteen in years if they could have been called years while in that unpaced corridor which I called childhood, which was not living but rather some projection of the lightless womb itself; I gestate and complete, not aged, just overdue because of some caesarean lack, some cold head-nuzzling forceps of the savage time which should have torn me free, I waited not for light but for that doom which we call female victory which is: endure and then endure, without rhyme or reason or hope of reward-and then endure; I like that blind subterranean fish, that insulated spark whose origin the fish no longer remembers, which pulses and beats at its crepuscular and lethargic tenement with the old unsleeping itch which has no words to speak with other than ' This was called light', that' smell', that' touch', that other something which has bequeathed not even name for sound of bee or bird or flower's scent or light or sun or love-yes, not even growing and developing, beloved by and loving light, but equipped only with that cunning, that inverted canker-growth of solitude which substitutes the omnivorous and unrational hearingsense for all the others: so that instead of accomplishing the processional and measured milestones of the childhood's time I lurked, unapprehended as though, shod with the very damp and velvet silence of the womb, I displaced no air, gave off no betraying sound, from one closed forbidden door to the next and so acquired all I knew of that light and space in which people moved and breathed as I (that same child) might have gained conception of the sun from seeing it through a piece of smoky glass-fourteen, four years younger than Judith, four years later than Judith's moment which only virgins know: when the entire delicate spirit's bent is one anonymous climaxless epicene and unravished nuptial-not that widowed and nightly violation by the inescapable and scornful deed which is the need of twenty and thirty and forty, but a world filled with living marriage like the light and air which she breathes.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: