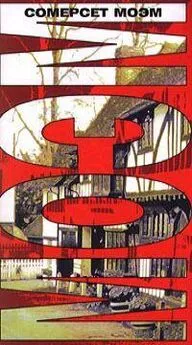Казалось, будто мы, совершенно одинаковые и взаимозаменяемые, составляем одно существо, которое копается на огороде, прядет пряжу, ткет ткань, чтобы прикрыть свою наготу, собирает по придорожным канавам жалкие лекарственные травы на случай, если б кто-нибудь из нас осмелился или нашел время захворать, подгоняет и улещивает все того же Джонса, чтобы он вспахал поле под кукурузу или заготовил дров для нашего пропитания и обогрева зимой, - мы трое, три женщины - л, которую обстоятельства слишком рано заставили дрожать над каждым пенсом и вести такое скудное хозяйство, какое с успехом могло бы вестись на маяке, на затерянном в море одиноком утесе; я не умела даже сажать цветы на клумбе, не говоря об овощах на огороде, и привыкла к тому, что тотливо само собой появляется в ящике для дров, а мясо - на полке в кладовой; Джудит, которую обстоятельства (обстоятельства? отнюдь! сто лет тщательного воспитания, если не кровь и даже не колдфилдовская кровь, то уж, во всяком случае, традиция, в которой неуемная воля Сатпена сумела отыскать какую-то щелку) создали для того, чтобы она тихо и мирно проходила все стадии, назначенные кокону: юная деву иска; окруженная поклонением многодетная королева; а затем всемогущая благостная матрона, купающаяся в лучах довольства спокойной и бодрой старости; Джудит, жертва того, что для меня было всего лишь несколькими годами неведения, тогда как для нее десятью поколениями железных запретов; она не усвоила даже первого закона нищеты, а именно -скупиться и скаредничать ради скупости и скаредности; она (с благословения Клити) готовила вдвое больше еды, чем мы могли съесть, и втрое больше, чем мы могли себе позволить, и раздавала ее каждому встречному и поперечному, каждому незнакомцу, который ее об этом просил, меж тем как округа уже кишмя кишела отставшими от своих частей солдатами; и, наконец, последняя по счету (хотя и игравшая отнюдь не последнюю роль), Клити.
| Clytie, not inept, anything but inept: perverse inscrutable and paradox: free, yet incapable of freedom who had never once called herself a slave, holding fidelity to none like the indolent and solitary wolf or bear (yes, wild: half untamed black, half Sutpen blood: and if 'untamed' be synonymous with 'wild', then ' Sutpen' is the silent unsleeping viciousness of the tamer's lash) whose false seeming holds it docile to fear's hand but which is not, which if this be fidelity, fidelity only to the prime fixed principle of its own savageness; -Clytie who in the very pigmentation of her flesh represented that debacle which had brought Judith and me to what we were and which had made of her (Clytie) that which she declined to be just as she had declined to be that from which its purpose had been to emancipate her, as though presiding aloof upon the new, she deliberately remained to represent to us the threatful portent of the old. |
Клити - не тупица, все что угодно, только не тупица: строптивая, загадочная, полная непостижимых противоречий, она была свободна, но совершенно не приспособлена к свободе, хотя никогда не называла себя рабыней; она не хранила верности никому, как ленивый одинокий медведь или волк (да, она была дикаркой: в ее жилах текла наполовину неукрощенная черная кровь, наполовину кровь Сатпена; и если слово "неукрощенная" - синоним слова "дикая", то слово "Сатпен" означает молчаливо и злобно подстерегающий свою жертву хлыст укротителя), чья обманчивая внешность изображает покорность и страх, которых на самом деле нет; а если это верность, то лишь своей же дикой необузданной натуре; Клити, самим цветом своей кожи олицетворявшая ту катастрофу, что довела меня и Джудит до нашего теперешнего состояния, а ее (Клити) сделала тем, чем она отказывалась быть - точно так же она отказывалась быть и тем, от чего эта катастрофа ставила себе целью ее освободить; казалось, с высоты своего величия взирая на новое, она упорно стремилась олицетворять для нас зловещую угрозу старого. |
| We were three strangers. |
Мы трое были друг другу чужими. |
| I do not know what Clytie thought, what life she led which the food we raised and cooked in unison, the cloth we spun and wove together, nourished and sheltered. |
Я ничего не знаю о мыслях Клити, о ее жизни, что поддерживала в ней пища, которую мы все вместе выращивали и варили, одежда, которую мы пряли и ткали. |
| But I expected that because she and I were open, ay honorable, enemies. |
Но я ничего другого и не ожидала ведь мы с ней были открытыми непримиримыми врагами. |
| But I did not even know what Judith thought and felt. |
Но и о мыслях и о чувствах Джудит я тоже ничего не знала. |
| We slept in the same room, the three of us (this for more than to conserve the firewood which we had to carry in ourselves. |
Мы все трое спали в одной комнате (и не только потому, что берегли дрова - ведь нам самим приходилось их носить. |
| We did it for safety. |
Нет, ради безопасности. |
| It was winter soon and already soldiers were beginning to come back the stragglers, not all of them tramps, ruffians, but men who had risked and lost everything, suffered beyond endurance and had returned now to a ruined land, not the same men who had marched away, but transformed-and this the worst, the ultimate degradation to which war brings the spirit, the soul into the likeness of that man who abuses from very despair and pity the beloved wife or mistress who in his absence has been raped. |
Приближалась зима, и уже начали возвращаться солдаты, отставшие от своих частей, - нельзя сказать, что все это были бродяги и бандиты, это были просто люди, которые всем рисковали и все потеряли, которые терпели нечеловеческие лишения и теперь возвращались на разоренную землю другими, не такими, какими ушли; и что самое ужасное - это последняя степень падения, до какой война доводит душу и сердце, - они уподобились человеку, которого отчаянье и жалость заставляют оскорблять любимую жену или подругу, в его отсутствие ставшую жертвой насилия. |
| We were afraid. |
Мы боялись. |
| We fed them; we gave them what and all we had and we would have assumed their wounds and left them whole again if we could. |
Мы их кормили, мы отдавали им все, что у нас было; мы охотно взяли бы себе их раны, лишь бы они остались невредимы. |
| But we were afraid of them.), we waked and fulfilled the endless tedious obligations which the sheer holding to life and breath entailed; we would sit before the fire after supper, the three of us in that state where the very bones and muscles are too tired to rest, when the attenuated and invincible spirit has changed and shaped even hopelessness into the easy obliviousness of a worn garment, and talk, talk of a hundred things-the weary recurrent trivia of our daily lives, of a thousand things but not of one. |
Но мы их боялись); мы просыпались и вставали; мы выполняли бесконечные нудные обязанности, без которых просто нельзя было жить; после ужина мы сидели у очага, все трое до того усталые, что кости и мышцы уже не могут отдыхать, когда истощенный, но все же непобедимый дух и в безнадежности способен отвлечься мыслью о какой-нибудь прорехе в одежде, и тут мы говорили, мы говорили о тысяче вещей - о нашей тяжкой, однообразной и убогой жизни, о тысяче вещей, о чем угодно, кроме одного. |
| We talked of him, Thomas Sutpen, of the end of the war (we could all see it now) and when he would return, of what he would do: how begin the Herculean task which we knew he would set himself, into which (oh yes, we knew this too) he would undoubtedly sweep us with the old ruthlessness whether we would or no; we talked of Henry, quietly-that normal useless impotent woman-worrying about the absent male-as to how he fared, if he were cold or hungry or not, just as we talked of his father, as if both they and we still lived in that time which that shot, those running mad feet, had put a period to and then obliterated, as though that afternoon had never been. |
Мы говорили о нем, о Томасе Сатпене, мы говорили о конце Войны (теперь нам было ясно, что он близок) и о том, что он станет делать, когда возвратится домой, как он возьмется за свой поистине достойный Геркулеса труд; мы твердо знали, что он за это дело возьмется и непременно - хотим мы того или нет - беспощадно вовлечет в него и нас (да, мы и это знали); мы говорили о Г енри - сдержанно, с обычной бесполезной беспомощной тревогой слабых женщин за отсутствующего мужчину - как ему живется, не голоден ли он, не страдает ли от холода; мы говорили о нем точно так же, как об его отце, словно и они и мы все еще продолжали жить в том времени, которому положил предел тот самый выстрел, с которым, навеки покончил тот бешеный топот по лестнице; говорили так, словно того вечера вовсе никогда и не было. |
| But not once did we mention Charles Bon. |
Но мы ни разу не упомянули о Чарльзе Боне. |
| There were two afternoons in the late fall when Judith was absent, returning at supper time serene and calm. |
Поздней осенью Джудит два раза днем куда-то исчезала и возвращалась к ужину, спокойная и невозмутимая. |
| I did not ask and I did not follow her, yet I knew and I knew that Clytie knew that she had gone to clear that grave of dead leaves and the sere brown refuse of the cedars that wound vanishing slowly back into the earth, beneath which we had buried nothing. |
Я ни о чем ее не спрашивала, не ходила за нею следом, но я знала, и Клити, несомненно, тоже знала, что она убирала палую листву и сухие можжевеловые иглы с могилы - с холмика, что постепенно сравнивался с землею, в которой мы ничего не похоронили. |
| No, there had been no shot. |
Нет, никакого выстрела не было. |
| That sound was merely the sharp and final clap-to of a door between us and all that was, all that might have been-a retroactive severance of the stream of event, a forever crystallized instant in imponderable time accomplished by three weak yet indomitable women which, preceding the accomplished fact which we declined, refused, robbed the brother of the prey, reft the murderer of a victim for his very bullet. |
Это был просто резкий стук раз и навсегда захлопнувшейся двери, за которой осталось все, что было и что могло бы быть, как будто мы, три слабые, но непреклонные женщины, упорно не желая примириться с тем, что уже произошло, остановили неуловимый бег событий, заставили застыть одно мгновенье и повернули время вспять; как будто мы похитили у брата его добычу, вырвали из рук убийцы жертву пули. |
| That was how we lived for seven months. |
Так прошло семь месяцев. |
| And then one afternoon in January Thomas Sutpen came home; someone looked up where we were preparing the garden for another year's food and saw him riding up the drive. |
А потом, это было в январе, Томас Сатпен вернулся домой, одна из нас подняла голову, склоненную над грядкой, которую мы готовили для посадок на будущий год, и увидела, как он верхом на лошади едет по аллее. |
| And then one evening I became engaged to marry him. |
А потом однажды вечером я с ним обручилась. |
| It took me just three months. (Do you mind that I don't say he, but I?) Yes, I, just three moths, who for twenty years had looked on him (when I did-had to too-look) as an ogre, some beast out of a tale to frighten children with; who had seen his own get upon my dead sister's body already begin to destroy one another, yet who must come to him like a whistled dog at that first opportunity, that noon when he who had been seeing me for twenty years should first raise his head and pause and look at me. Oh, I hold no brief for myself who could (and would; ay, doubtless have already) give you a thousand specious reasons good enough for women, ranging from woman's natural inconsistency to the desire (or even hope) for possible wealth, position, or even the fear of dying manless which (so they will doubtless tell you) old maids always have, or for revenge. |
На это мне потребовалось всего лишь три месяца. (Вы заметили, что я говорю "мне", а не "ему"?) Да, именно мне, и всего лишь три месяца, а ведь я целых двадцать лет смотрела на него (когда мне случалось, приходилось на него смотреть) как на людоеда, на сказочного зверя, каким пугают маленьких детей; я видела, как его отпрыски, плоть от плоти моей покойной сестры, уже начали уничтожать друг друга, и тем не менее в тот полдень, когда он, двадцать лет не удостаивавший меня взглядом, поднял голову, остановился и посмотрел на меня, я сразу побежала к нему, как собачонка, которую свистнул хозяин, нет, я не оправдываю себя, хотя и могла бы (и хотела бы и даже привела) привести тысячу благовидных предлогов, вполне достаточных для женщин, от природной женской непоследовательности до желания (или надежды) разбогатеть, занять положение в обществе или просто страха умереть, не познав мужчины, - таким страхом (как вам, без сомнения, скажут) одержимы все старые девы - и, наконец, жажды отомстить. |
| No. |
Нет. |
| I hold no brief for me. |
Я ничем себя не оправдываю. |
| I could have gone home and I did not. |
Я могла бы уехать домой и не уехала. |
| Perhaps I should have gone home. |
Наверное, мне надо было уехать домой. |
| But I did not. |
Но я не уехала. |
| As Judith and Clytie did, I stood there before the rotting portico and watched him ride up on that gaunt and jaded horse on which he did not seem to sit but rather seemed to project himself ahead like a mirage, in some fierce dynamic rigidity of impatience which the gaunt horse, the saddle, the boots, the leaf-colored and threadbare coat with its tarnished and flapping braid containing the sentient though nerveless shell, which seemed to precede him as he dismounted and out of which he said |
Вместе с Джудит и Клити я стояла перед полуразвалившимся портиком и смотрела, как он подъезжает к дому на тощей заезженной кляче; казалось, будто в седле сидит не он, будто перед нами только мираж, лишь его отражение - око вырвалось вперед, застыло в яростном безумном нетерпенье, которое передалось его тощей кляче, его седлу, сапогам, потрепанному, выгоревшему до цвета палого листа мундиру с оборванными потускневшими золотыми нашивками, висевшему на этой живой, но бесчувственной оболочке; казалось, еще прежде, чем он успел спешиться, эта оболочка приблизилась к нам и из нее раздался голос: |
| 'Well, daughter' and stooped and touched his beard to Judith's forehead, who had not, did not, move, who stood rigid and still and immobile of face, and within which they spoke four sentences, four sentences of simple direct words behind beneath above which I felt that same rapport of communal blood which I had sensed that day while Clytie held me from the stairs: |
"Здравствуй, дочь", после чего он наклонился и коснулся бородою лба Джудит, которая все это время стояла неподвижно, молча, с застывшим лицом, и они обменялись четырьмя фразами, четырьмя короткими, простыми фразами - в них, над ними и за ними ясно слышался тот самый голос крови, который почудился мне, когда Клити не подпускала меня к лестнице: |
| ' Henry's not-?" |
"Генри не...?" - |
| 'No. |
"Нет. |
| He's not here."-Ah. |
Его здесь нет". - "Так. |
| And-?" ' Yes. |
А...?" - "Да. |
| Henry killed him." |
Генри его убил". |
| And then burst into tears. |
И тут она разразилась слезами. |
| Yes, burst, who had not wept yet, who had brought down the stairs that afternoon and worn ever since that cold, calm face which had stopped me in midrunning at that closed door; yes, burst, as if that entire accumulation of seven months were erupting spontaneously from every pore in one incredible evacuation (she not moving, not moving a muscle) and then vanishing, disappearing as instantaneously as if the very fierce and arid aura which he had enclosed her in were drying the tears faster than they emerged: and still standing with his hands on her shoulders and looked at Clytie and said, |
Да, слезами, а ведь она ни разу не плакала; ведь с того самого дня, когда она спустилась с лестницы все с тем же спокойным каменным лицом, которое остановило меня на бегу перед той самой запертою дверью и с тех пор не менялось; да, она разразилась слезами, словно все, что накопилось за эти семь месяцев, одним немыслимым потоком само собою хлынуло наружу (а она при этом не шевельнулась, ни единый мускул не дрогнул на ее лице), хлынуло и так же внезапно исчезло, испарилось, словно сухой опаляющий жар бесплодной пустыни, которым от него пахнуло, мгновенно высушил ей слезы; все еще не снимая рук с ее плеч, он взглянул на Клити, проговорил: |
| 'Ah, Clytie' and then at me-the same face which he'd last seen, only a little thinner, the same ruthless eyes, the hair grizzled a little now, and no recognition in the face at all until Judith said, ' It's Rosa. |
"Ну, как ты, Клити?" - и тогда посмотрел на меня -то же лицо, которое я видела последний раз, только чуть-чуть осунувшееся, те же жестокие глаза, волосы, теперь чуть-чуть тронутые сединой, и ни малейшего признака, что он меня узнал, пока наконец Джудит не сказала: "Это Роза. |
| Aunt Rosa. |
Тетя Роза. |
| She lives here now. ' That was all. |
Она теперь живет у нас". И это было все. |
| He rode up the drive and into our lives again and left no ripple save those instantaneous and incredible tears. |
Он въехал на аллею и снова вошел в нашу жизнь, не оставив на ней никакого следа, кроме этих внезапных невероятных слез. |
| Because he himself was not there, not in the house where we spent our days, had not stopped there. |
Ведь его самого здесь не было; в этом доме, где проходили наши дни, он, в сущности, совсем не появлялся. |
| The shell of him was there, using the room which we had kept for him and eating the food which we produced and prepared as if it could neither feel the softness of the bed nor make distinction between the viands either as to quality or taste. |
Здесь пребывала лишь его оболочка; она занимала комнату, которую мы для него убирали, ела пищу, которую мы добывали и варили; казалось, он не способен насладиться ни мягкою постелью, ни вкусом или качеством еды. |
| Yes. |
Да. |
| He wasn't there. |
Его здесь не было. |
| Something ate with us; we talked to it and it answered questions; it sat with us before the fire at night and, rousing without any roaming from some profound and bemused complete inertia, talked, not to us, the six ears, the three minds capable of listening, but to the air, the waiting grim decaying presence, spirit, of the house itself, talking that which sounded like the bombast of a madman who creates within his very coffin walls his fabulous immeasurable Camelots and Carcassonnes. |
Какое-то существо ело с нами за одним столом; мы задавали ему вопросы, и оно нам отвечало; по вечерам оно сидело вместе с нами у очага и, внезапно пробудившись от глухой глубокой дремы, обращалось с речью - не к нам, не к трем парам ушей, не к трем наделенным слухом и разумом существам, а к воздуху, к притаившемуся где-то в пустоте угрюмому призраку, духу своего полуразвалившегося дома; оно говорило словами, напоминавшими безумный бред одержимого, который в самых стенах собственной гробницы возводит сказочные замки, исполинские Камелоты и Каркассонны. |
| Not absent from the place, the arbitrary square of earth which he had named Sutpen's Hundred: not that at all. |
Не то чтобы его не было здесь, на этом случайном квадратном клочке земли, который он назвал Сатпеновой Сотней, нет. |
| He was absent only from the room, and that because he had to be elsewhere, a part of him encompassing each ruined field and fallen fence and crumbling wall of cabin or cotton house or crib; himself diffused and in solution held by that electric furious immobile urgency and awareness of short time and the need for haste as if he had just drawn breath and looked about and realized that he was old (he was fifty-nine) and was concerned (not afraid: concerned) not that old age might have left him impotent to do what he intended to do, but that he might not have time to do it in before he would have to die. |
Его не было только в этой комнате, и то лишь потому, что какая-то неведомая сила влекла его отсюда, потому, что он распался на отдельные частицы, и они витали над каждым заросшим сорняками полем, над каждой обвалившейся изгородью, над рухнувшей стеною каждой хижины, амбара и конюшни; подобно электрическому току, проходящему сквозь раствор электролита, все эти частицы держало в неистовом и неослабном напряженье сознание того, что время коротко, что надо торопиться; казалось, он лишь сейчас, сию минуту, родился на свет, огляделся вокруг и понял, что он уже стар (ему было пятьдесят девять лет), и им овладела тревога (не страх, а именно тревога), что старость отнимет у него не силы, а время, и он не успеет завершить задуманное прежде, чем наступит его смертный час. |
| We were right about what he would intend to do: that he would not even pause for breath before undertaking to restore his house and plantation as near as possible to what it had been. |
Мы верно угадали его намерения, мы поняли, что он даже не остановится передохнуть, а тотчас примется за дело, стараясь по возможности вернуть свой дом и плантацию в их прежнее состояние. |
| We did not know how he would go about it, nor I believe did he. |
Мы не знали, как он к этому приступит; я думаю, что он не знал и сам. |
| He could not have known, who came home with nothing, to nothing, to four years less than nothing. |
Да он и не мог этого знать ведь он вернулся ни с чем, в ничто, в оставшееся за четыре года меньше чем ничто. |
| But it did not stop him, intimidate him. |
Но это его не остановило и не испугало. |
| His was that cold alert fury of the gambler who knows that he may lose anyway but that with a second's flagging of the fierce constant will he is sure to: and who keeps suspense from ever quite crystallizing by sheer fierce manipulation of the cards or dice until the ducts and glands of luck begin to flow again. |
Он обладал холодным расчетом и одержимостью игрока, который знает, что всегда может проиграть, но проиграет непременно, если хоть на секунду ослабит неистовое напряжение воли, и потому при помощи лихорадочных комбинаций с картами или костями откладывает решающий ход до той минуты, покуда заглохшие источники и каналы удачи не исторгнут новую струю. |
| He did not pause, did not take that day or two to let the bones and flesh of fifty-nine recuperate-the day or two in which he might have talked, not about us and what we had been doing, but about himself, the past four years (for all he ever told us, there might not have been any war at all, or it on another planet and no stake of his risked on it, no flesh and blood of his to suffer by it) that natural period during which bitter though unmaimed defeat might have exhausted itself to something like peace, like quiet in the raging and incredulous recounting (which enables man to bear with living) of that feather's balance between victory and disaster which makes that defeat unbearable which, turning against him, yet declined to slay him who, still alive, yet cannot bear to live with it. |
Он не остановился, не дал своим пятидесятидевятилетним мышцам и костям передохнуть день или два, день или два, когда он мог бы поговорить - не о нас и не о том, как мы все это время жили, а о себе, о прошедших четырех годах (судя по тому немногому, что он нам рассказал, никакой войны могло вовсе и не быть, а если она и была, то где-то на другой планете, и он ничем в ней не рисковал, а его плоть и кровь в ней совсем не пострадали) -естественном промежутке времени, необходимом для того, чтобы жестокая горечь пораженья могла избыть себя в чем-то вроде мира, вроде передышки в неистовом немыслимом рассказе (лишь он один позволил уцелевшему мириться с жизнью) о том, сколь ничтожна пушинка, склоняющая чашу весов к победе или катастрофе и сколь невыносимо пораженье, когда оно обращается против самого человека, но не стирает его с лица земли, а оставляет ему жизнь, но жить с этим сознаньем он не может. |
| We hardly ever saw him. |
Мы его почти не видели. |
| He would be gone from dawn until dark, he and Jones and another man or two that he had got from somewhere and paid with something, perhaps the same coin in which he had paid that foreign architect-cajolery, promise, threat and at last force. |
Он уходил на рассвете и возвращался затемно, он, Джонс и еще двое или трое мужчин, которых он где-то разыскал и которым чем-то платил возможно, тем же, чем чужеземному архитектору, - увещаниями, посулами, угрозами и, наконец, силой. |
| That was the winter when we began to learn what carpetbagger meant and people-women-locked doors and windows at night and began to frighten each other with tales of Negro uprisings, when the ruined, the four years' fallow and neglected land lay more idle yet while men with pistols in their pockets gathered daily at secret meeting places in the towns. |
Этой зимою мы узнали, что такое саквояжники, и люди - во всяком случае женщины - стали по ночам запирать окна и двери и пугать друг друга рассказами о восстаниях негров; этой зимою заросшие, уже четыре года не знавшие плуга, заброшенные поля оставались в еще большем небрежении, меж тем как белые мужчины с пистолетами в карманах каждый день собирались в городах. |
| He did not make one of these; I remember how one night a deputation called, rode out through the mud of early March and put him to the point of definite yes or no, with them or against them, friend or enemy: and he refused, declined, offered them (with no change of gaunt ruthless face nor level voice) defiance if it was defiance they wanted, telling them that if every man in the South would do as he himself was doing, would see to the restoration of his own land the general land and South would save itself: and ushered them from the room and from the house and stood plain in the doorway holding the lamp above his head while their spokesman delivered his ultimatum: |
Его с ними не было; помню, как однажды ночью, пробравшись по непролазной мартовской грязи, они явились к нему целой депутацией и потребовали от него ответа - да или нет, с ними или против них, друг или враг, а он отказался, уклонился, дал им понять (ни единый мускул на его исхудалом свирепом лице не дрогнул, ровный голос не повысился), что ему не до них, и что если каждый южанин последует его примеру и позаботится о своем достоянии, то вся земля и весь Юг будут спасены, после чего выпроводил их из комнаты и из дома, поднял над головою лампу, остановился на виду у всех в дверях, выслушал последнее слово их вожака: |
| ' There be war, Sutpen,' and answered, |
"Значит, война, Сатпен", - и ответил: |
| ' I am used to it." |
"Я к ней привык". |
| Oh yes, I watched him, watched his old man's solitary fury fighting now not with the stubborn yet slowly tractable earth as it had done before, but now against the ponderable weight of the changed new time itself as though he were trying to dam a river with his bare hands and a shingle: and this for the same spurious delusion of reward which had failed (failed? betrayed: and would this time destroy) him once; I see the analogy myself now: the accelerating circle's fatal curving course of his ruthless pride, his lust for vain magnificence, though I did not then. |
Да, конечно, я следила за ним, следила, как этот одинокий старик вступил в жестокое единоборство не с упрямой, но постепенно поддающейся землей, как это было прежде, а с новым тяжким грузом самого времени, словно пытался запрудить реку голыми руками и одним-единственным камушком; и все это в погоне за прежней неверной мечтой об успехе, которая уже однажды его обманула (обманула? нет, предала, а на этот раз его погубит)', теперь я сама ясно вижу эту аналогию: двигаясь по роковому кругу, его неуемная гордыня и суетное пристрастие к пустому величию все быстрее и быстрее влекут его к концу, аналогию, которая тогда от меня ускользнула. |
| And how could I? turned twenty true enough yet still a child, still living in that womb-like corridor where the world came not even as living echo but as dead incomprehensible shadow, where with the quiet and unalarmed amazement of a child I watched the miragy antics of men and women-my father, my sister, Thomas Sutpen, Judith, Henry, Charles Bon-called honor, principle, marriage, love, bereavement, death; the child who watching him was not a child but one of that triumvirate mother-woman which we three, Judith, Clytie, and I made, which fed and clothed and warmed the static shell and so gave vent and scope to the fierce vain illusion and so said, 'at last my life is worth something, even though it only shields and guards the antic fury of an insane child." |
Да и как могла я ее видеть? И в двадцать лет я все еще была девочкой, все еще пребывала в том узком, как материнское чрево, коридоре, куда не проникал не только живой отзвук окружающего мира, но даже его мертвая загадочная тень, откуда я с невозмутимым незамутненным изумлением ребенка смотрела на призрачный хоровод, в котором кружились мужчины и женщины - мой отец, моя сестра, Томас Сатпен, Джудит, Генри, Чарльз Бон, наблюдала их шутовские ужимки, называемые честью, принципами, бракосочетанием, любовью, горем, смертью; правда, девочка, что наблюдала за Сатпеном, была уже не девочкой, а частью триумвирата, который составляли мы трое - Джудит, я и Клити; мы, как единая женщина-мать, кормили, одевали, согревали эту застывшую оболочку, таким образом давая простор и волю его безумному пустому заблужденью, и каждая из нас говорила себе: "Наконец-то моя жизнь обрела какой-то смысл; пусть даже он заключается лишь в том, чтоб охранять и ограждать дикие выходки неразумного дитяти". |
| And then one afternoon (I was in the garden with a hoe, where the path came up from the stable-lot) I looked up and saw him looking at me. |
А однажды за полдень (я вскапывала мотыгой грядку в том месте, где проходила тропинка от конюшни к дому) я подняла голову и увидела, что он на меня смотрит. |
| He had seen me for twenty years, but now he was looking at me; he stood there in the path looking at me, in the middle of the afternoon. |
Он двадцать лет меня видел, но теперь он на меня смотрел; он средь бела дня стоял на тропинке и на меня смотрел. |
| That was it: that it should have been in the middle of the afternoon, when he should not have been anywhere near the house at all but miles away and invisible somewhere among his hundred square miles which they had not troubled to begin to take away from him yet, perhaps not even at this point or at that point but diffused (not attenuated to thinness but enlarged, magnified, encompassing as though in a prolonged and unbroken instant of tremendous effort embracing and holding intact that ten-mile square while he faced from the brink of disaster, invincible and unafraid, what he must have known would be the final defeat) but instead of that standing there in the path looking at me with something curious and strange in his face as if the barnlot, the path at the instant when he came in sight of me had been a swamp out of which he' had emerged without having been forewarned that he was about to enter light, and then went on-the face, the same face: it was not love; I do not say that, not gentleness or pity: just a sudden over-burst of light, illumination, who had been told that his son had done murder and vanished and said |
И ведь вот что любопытно - что это должно было произойти именно средь бела дня, и хотя в это время ему следовало находиться совсем не возле дома, а где-то за тридевять земель, на этой сотне квадратных миль, которые у него еще не удосужились отнять, возможно, даже не в той или иной их точке, а везде и всюду (он не рассеялся, не растворился, не растаял, а, напротив, увеличился, колоссально разросся, словно каким-то нечеловеческим усилием сумел на одно бесконечно долгое мгновенье охватить и удержать в целости и сохранности весь этот квадрат длиной и шириною в десять миль, остановился на краю разверстой пропасти и, непобежденный, бесстрашно взирал на свое неотвратимое и, как он теперь уже, конечно, понимал, окончательное пораженье), он вместо этого стоял на тропинке и смотрел на меня каким-то странным, непонятным взглядом, словно в ту минуту, как он меня увидел, двор и тропинка были болотом, из которого он вышел, не подозревая, что вот-вот выберется на солнце, а потом двинулся дальше... лицо, то самое лицо; это была не любовь, я этого совсем не говорю, не жалость или нежность, это была просто внезапная вспышка света, озаренье; ведь этот человек, узнав, что сын его совершил убийство и исчез, сказал только: |
| ' Ah. -well, Clytie." |
"Ага. Ну как ты тут, Клити?" |
| He went on to the house. |
Он пошел дальше, к дому. |
| But it was not love: I do not claim that; I hold no brief for myself, I do not excuse it. |
Но это была не любовь; я этого не утверждаю, я не ищу себе ни извинений, ни оправданий. |
| I could have said that he had needed, used me; why should I rebel now, because he would use me more? but I did not say it; I could say this time, I do not know, and I would tell the truth. |
Я могла бы сказать, что он и раньше во мне нуждался, что он меня использовал, так чего мне было возмущаться, если он хотел использовать меня еще больше, но я этого не сказала; я могла бы на этот раз сказать: "Не знаю", - и сказала бы правду. |
| Because I do not know. |
Потому что я действительно не знаю. |
| He was gone; I did not even know that either since there is a metabolism of the spirit as well as of the entrails, in which the stored accumulations of long time burn, generate, create, and break some maidenhead of the ravening meat; ay in a second's time-yes, lost all the shibholeth erupting of cannot, will not, never will in one red instant's fierce obliteration. |
Он ушел; я не заметила даже и этого ведь существует не только метаболизм тела, но и метаболизм духа, в котором то, что копилось долгое время, сгорает, возрождается, создает и разрывает некую девственную плеву разбушевавшейся плоти; да, в какую-то долю секунды, в какой-то миг пылающего забвенья унеслись и рассыпались в прах все сокровенные заклятья: не могу, не хочу, ни за что, никогда. |
| This was my instant, who could have fled then and did not, who found that he had gone on and did not remember when he had walked away, who found my okra bed finished without remembering the completing of it, who sat at the supper table that night with the familiar dream-cloudy shell which we had grown used to (he did not look at me again during the meal; I might have said then, To what deluded sewer-gush of dreaming does the incorrigible flesh betray us: but I did not) and then before the fire in Judith's bedroom sat as we always did until he came in the door and looked at us and said, |
Эта секунда еще принадлежала мне, я еще могла бежать, но я осталась; я заметила, что его нет, но не помнила, как он ушел; я увидела, что моя овощная грядка вскопана, хотя и не помнила, когда успела ее закончить; в этот вечер я сидела за ужином, со знакомой, погруженной в глухую дрему оболочкой, к которой мы постепенно привыкли (за едой он ни разу на меня не взглянул; я могла бы сказать тогда: какою же фальшивою мечтою нас обманет, в какую сточную канаву сновидений нас завлечет неисправимая предательская плоть? но не сказала), а когда мы, по обыкновению, сидели у очага в спальне Джудит, он появился в дверях, посмотрел на нас, сказал: |
| 'Judith, you and Clytie-' and ceased, still entering, then said, ' No, never mind. |
"Джудит, ты и Клити..." - и умолк, а затем, войдя в комнату, продолжал: "Впрочем, все равно. |
| Rosa will not mind if you both hear it too, since we are short for time and busy with what we have of it' and came and stopped and put his hand on my head and (I do not know what he looked at while he spoke, save that by the sound of his voice it was not at us nor at anything in that room) said, ' You may think I made your sister Ellen no very good husband. |
Роза не обидится, если вы обе тоже об этом услышите; ведь времени у нас в обрез, а дел по горло", - после чего подошел, остановился, положил мне на голову руку (я не знаю, на что он смотрел, когда говорил, но, судя по звуку его голоса, он не смотрел ни на нас, ни на что-либо другое в комнате) и сказал: "Ты, вероятно, думаешь, что я был не очень хорошим мужем твоей сестре Эллен. |
| You probably do think so. |
Ты наверняка так думаешь. |
| But even if you will not discount the fact that I am older now, I believe I can promise that I shall do no worse at least for you." |
Но если ты даже не сделаешь скидку на то, что я теперь постарел, я, пожалуй, могу обещать, что буду во всяком случае не худшим мужем тебе". |
| That was my courtship. |
Таков был мой роман. |
| That minute's exchanged look in a kitchen garden, that hand upon my head in his daughter's bedroom; a ukase, a decree, a serene and florid boast like a sentence (ay, and delivered in the same attitude) not to be spoken and heard but to be read carved in the bland stone which pediments a forgotten and nameless effigy. |
Мимолетный обмен взглядами на огороде, рука у меня на голове в спальне его дочери, указ, повеление, холодная самоуверенная речь, как приговор (он и стоял так, как стоят, читая приговор), который не произносят и не выслушивают, а читают вырубленным на гладком камне, что служит подножьем забытой безымянной надгробной статуи. |
| I do not excuse it. |
Я этого не извиняю. |
| I claim no brief, no pity, who did not answer |
Я не прошу ни оправдания, ни жалости; я не ответила: |
| 'I will' not because I was not asked, because there was no place, no niche, no interval for reply. |
"Да, я согласна", - не потому, что меня об этом не просили, и не потому, что для ответа не нашлось ни времени, ни места и никакой возможности. |
| Because I could have made one. |
Ведь я могла ответить. |
| I could have forced that niche myself if I had willed to-a niche not shaped to fit mild ' Yes' but some blind desperate)male weapon's frenzied slash whose very gaping wound had cried' No! |
Ведь стоило мне только захотеть, и я бы силой вырвала возможность сказать в ответ не кроткое: "Да", а в слепом отчаянье обрушить жестокий сокрушительный удар любым оружием, доступным женщине, чья зияющая рана вопиет. |
| No!" and' Help!" and' Save me!" |
"Нет! Ни за что! Спасите! Помогите!" |
| No, no brief, no pity, who did not even move, who sat beneath that hard oblivious childhood ogre's hand and heard him speak to Judith now, heard Judith's feet, saw Judith's hand, not Judith-that palm in which I read as from a printed chronicle the orphaning, the hardship, the bereave of love; the four hard barren years of scoriating loom, of axe and hoe and all the other tools decreed for men to use: and upon it lying the ring which he gave Ellen in the church almost thirty years ago. |
Нет, я не прошу ни оправданий, ни жалости - ведь я не шевельнулась, я сидела под тяжестью бесчувственной руки людоеда из моего детства; я слышала, как он сказал что-то Джудит, слышала ее шаги, потом увидела ее руку - да, не Джудит, а только ее руку, по которой, как по печатной хронике, я прочитала всю ее историю - -сиротство, лишения, погибшую любовь, четыре года неблагодарного и тяжкого труда; натруженную ладонь, на которой оставили неизгладимый след ткацкий станок, топор, мотыга и другие орудия, назначенные в удел мужчинам; и на этой ладони лежало кольцо, которое он тридцать лет назад дал Эллен в церкви. |
| Yes, analogy and paradox and madness too. |
Да, аналогия, парадокс, а в придачу еще и безумие. |
| I sat there and felt, not watched, him slip the ring onto my finger in my turn (he was sitting now also, in the chair which we called Clytie's while she stood just beyond the firelight's range beside the chimney) and listened to his voice as Ellen must have listened in her own spirit's April thirty years ago: he talking not about me or love or marriage, not even about himself and to no sane mortal listening nor out of any sanity, but to the very dark forces of fate which he had evoked and dared, out of that wild braggart dream where an intact Sutpen's Hundred which no more had actual being now (and would never have again) than it had when Ellen first heard it, as though in the restoration of that ring to a living finger he had turned all time back twenty years and stopped it, froze it. |
Я сидела и, не глядя, чувствовала, как он теперь надевает это кольцо на палец мне (он теперь тоже сидел - на том стуле, который обычно занимала Клити, а она стояла у камина, там, куда не достигал свет горящих поленьев), и слушала его голос, как тридцать лет назад в апрельский день своей юности слушала его Эллен; он говорил не обо мне, не о любви и не о свадьбе и далее не о себе; это была не речь нормального человека, он обращался не к другим нормальным людям, а к темным силам рока, которые он сам же вызвал к жизни и которым теперь сам бросил дерзкий вызов; это была неуемная похвальба безумца, одурманенного сном о прежней целой Сатпеновой Сотне, которой теперь не существовало (и больше никогда не будет существовать в действительности), как это было в тот день, когда Эллен впервые о ней услышала, как будто, снова надев кольцо на палец живой женщины, он повернул время на двадцать лет назад, сумел его остановить и заморозить. |
| Yes. |
Да. |
| I sat there and listened to his voice and told myself, ' Why, he is mad. |
Я сидела, слушала его голос и говорила себе: "Ведь он сошел с ума. |
| He will decree this marriage for tonight and perform his own ceremony, himself both groom and minister; pronounce his own wild benediction on it with the very bedward candle in his hand: and I mad too, for I will acquiesce, succumb; abet him and plunge down." |
Он назначит, эту свадьбу на сегодня; сам и священник и жених, он совершит свой собственный обряд и со свечой в руке произнесет свое безумное благословенье; но и я тоже сошла с ума, ибо я дам согласие, покорюсь, стану его сообщницей и брошусь в пропасть". |
| No, I hold no brief, ask no pity. |
Нет, я не ищу себе оправданий, не взываю к жалости. |
| If I was saved that night (and I was saved; mine was to be some later, colder sacrifice when we-I-should be free of all excuse of the surprised importunate traitorous flesh) it was no fault, no doing of my own but rather because, once he had restored the ring, he ceased to look at me save as he had looked for the twenty years before that afternoon, as if he had reached for the moment some interval of sanity such as the mad know, just as the sane have intervals of madness to keep them aware that they are sane. |
Если в ту ночь я спаслась (а я действительно спаслась; мне была уготована иная, еще более горькая участь, которая постигнет меня позже, когда у нас... то есть у меня не будет никаких оснований ссылаться на захваченную врасплох докучную предательскую плоть), это была не моя заслуга, я не сделала для этого ровно ничего, это случилось просто потому, что, водворив на место кольцо, он тотчас перестал на меня смотреть или, вернее, смотрел так же, как все предыдущие двадцать лет; словно он на короткое время вновь обрел рассудок, как это бывает с безумцами, да и нормальных людей тоже порою охватывают приступы безумия, чтобы они не забывали о своем здравом рассудке. |
| It was more than that even. |
И даже более того. |
| For three months now he had seen me daily though he had not looked at me since I merely made one of that triumvirate who received his gruff unspoken man's gratitude for the spartan ease we supplied, not to his comfort perhaps but at least to the mad dream he lived in. |
Он уже три месяца ежедневно меня видел, хотя и вовсе на меня не смотрел, ибо я попросту составляла часть триумвирата, принимавшего его молчаливую грубоватую мужскую благодарность если не за жалкие спартанские удобства, которые мы ему доставляли, то, по крайней мере, за возможность и дальше жить в своем безумном сне. |
| But for the next two months he did not even see me. |
Однако следующие два месяца он меня даже и совсем не видел. |
| Perhaps the reason was the obvious one: he was too busy; that having accomplished his engagement (granted that was what he wanted) he did not need to see me. |
Скорее всего потому, что он был слишком занят, а после обручения (если предположить, что именно этого он и хотел) ему уже незачем было со мною видеться. |
| Certainly he did not: there was not even any date set for the wedding. |
Разумеется, незачем - ведь даже день свадьбы не был назначен. |
| It was almost as though that very afternoon did not exist, had never happened. |
Казалось, будто того вечера вообще никогда не было, не существовало. |
| I might not have even been there in the house. |
Меня могло вообще никогда не быть в доме. |
| Worse: I could have gone, returned home, and he would not have missed me. |
Хуже того, я могла уехать, возвратиться к себе домой, а он бы этого даже не заметил. |
| I was (whatever it was he wanted of me-not my being, my presence: just my existence, whatever it was that Rosa Coldfield or any young female no blood kin to him represented in whatever it was he wanted-because I will do him this credit: he had never once thought about what he asked me to do until the moment he asked it because I know that he would not have waited two months or even two days to ask it)-my presence was to him only the absence of black morass and snarled vine and creeper to that man who had struggled through a swamp with nothing to guide or drive him-no hope, no light: only some incorrigibility of undefeat-and blundered at last and without warning onto dry solid ground and sun and air-if there could have been such thing as sun to him, if anyone or anything could have competed with the white glare of his madness. |
Я (не знаю, что ему было от меня нужно, во всяком случае, не я сама, не мое присутствие, скорее чтобы я просто существовала; ему было все равно, кто сыграет эту роль - Роза ли Колдфилд или любая другая молодая женщина, не состоящая с ним в кровном родстве; однако и тут я должна отдать ему должное: он ни разу не подумал о том, что позже предложил мне сделать, ни разу до той минуты, когда он сам об этом объявил, - я знаю, что он не стал бы откладывать это предложение не только на два месяца, но даже и на два дня)... мое присутствие было для него всего лишь отсутствием черной трясины, густых непроходимых дебрей и лиан для человека, который пробирался сквозь болото без всякой надежды, без света, руководимый и движимый лишь одной несокрушимой стойкостью непораженья, и вдруг наткнулся на твердую сухую землю, увидел солнце, вдохнул воздух -если для него вообще существовало солнце, если кто-то или что-то могло затмить ослепительное сиянье его безумия. |
| Yes, mad, yet not so mad. |
Да, он был безумен, но не настолько уж безумен. |
| Because there is a practicality to viciousness: the thief, the liar, the murderer even, has faster rules than virtue ever has; why not madness to? |
Ибо и в злодействе есть целесообразность: вор, жулик, даже убийца руководствуются правилами более строгими, чем сама добродетель, так почему бы не иметь их безумию? |
| If he was mad, it was only his compelling dream which was insane and not his methods: it was no madman who bargained and cajoled hard manual labor out of men like Jones; it was no madman who kept clear of the sheets and hoods and night-galloping horses with which men who were once his acquaintances even if not his friends discharged the canker suppuration of defeat; it was no madman's plan or tactics which gained him at the lowest possible price the sole woman available to wive him, and by the one device which could have gained his point-not madman, no: since surely there is something in madness, even the demoniac, which Satan flees, aghast at his own handiwork, and which God looks on in pity-some spark, some crumb to leaven and redeem that articulated flesh, that speech sight hearing taste and being which we call human man. |
Если он был безумцем, то сумасбродной была лишь его неотвязная мечта, а не образ действий; тот, кто посулами и увещаньем мог заставить людей вроде Джонса трудиться в поте лица, не был безумцем; тот, что чурался белых балахонов и скачущих в ночи галопом лошадей, при помощи которых его прежние знакомцы, если не друзья, пытались избавиться от разъедавшей их гнилостной язвы пораженья, не был безумцем; а разве безумным был план, посредством которого он ухитрился по самой дешевой цене заполучить единственную женщину, способную стать его женой, и притом единственным способом, сулившим успех? - нет, только не безумцем, ибо ведь и в безумии и даже в маниакальной одержимости есть нечто, чего, ужаснувшись дела рук своих, бежит сам Сатана и, что вызывает сострадание господа бога - какая-то ничтожная искорка, какая-то частичка, способная облегчить участь и искупить грехи наделенной даром речи, зрением, слухом, обонянием и вкусом живой плоти, которую мы называем человеком. |
| But no matter. |
Но все равно. |
| I will tell you what he did and let you be the judge. (Or try to tell you, because there are some things for which three words are three too many, and three thousand words that many words too less, and this is one of them. |
Я расскажу вам, что он сделал, а вы судите сами. (Или, вернее, попробую вам это рассказать: ведь существуют вещи, для которых три слова на три больше, чем нужно, а три тысячи слов ровно на столько же меньше, и это - одна из них. |
| It can be told; I could take that many sentences, repeat the bold blank naked and outrageous words just as he spoke them, and bequeath you only that sane aghast and outraged unbelief I knew when I comprehended what he meant; or take three thousand sentences and leave you only that Why? Why? and Why? that I have asked and listened to for almost fifty years.) But I will let you be the judge and let you tell me if I was not right. |
Об этом можно рассказать: я могу произнести ровно столько же фраз, повторить грубые, бесстыдные и дерзкие слова, которые произнес он, и внушить вам такой же ужас, возмущенье и смятенье, какие охватили меня, когда я поняла, что он имеет в виду; я могу произнести три тысячи фраз и оставить вам лишь тот же вопрос: -почему? почему? и еще раз почему? - который я задаю себе и слышу уже почти полсотни лет.) Но я хочу, чтоб вы судили сами и сказали, была ли я права, чтобы вы были судьей и сказали мне, права я или нет. |
| You see, I was that sun, or thought I was who did believe there was that spark, that crumb in madness which is divine, though madness knows no word itself for terror or for pity. |
Понимаете, я была солнцем или думала, что я им была - ведь я верила, что в безумии есть хоть искорка, хоть частичка божественного огня, если даже само безумие не знает слов для обозначения ужаса и жалости. |
| There was an ogre of my childhood which before my birth removed my only sister to its grim ogre-bourne and produced two half phantom children whom I was not encouraged, and did not desire, to associate with as if my lateborn solitude had taught me presentiment of that fateful intertwining, warned me of that fatal snarly climax before I knew the name for murder-and I forgave it; there was a shape which rode away beneath a flag and (demon or no) courageously suffered-and I did more than just forgive: I slew it, because the body, the blood, the memory which that ogre had dwelt in returned five years later and held out its hand and said |
Был на свете людоед моего детства; еще до моего рождения он утащил в свое мрачное логово мою единственную сестру и породил двоих маленьких получудовищ; меня не поощряли, да я и сама не хотела с ними дружить, словно мое запоздалое рождение и одиночество внушило мне предчувствие того рокового сплетения судеб, предупредило о той роковой зловещей катастрофе еще прежде, чем я узнала слово "убийство" - и я его простила; был призрак, который ускакал верхом под знаменем и (был то демон или нет) мужественно нес свой крест; и я не только простила, я его уничтожила, ибо пять лет спустя людоед возвратился в своем прежнем обличье, каким он жил в памяти, протянул руку и сказал: |
| 'Come' as you might say it to a dog, and I came. |
"Поди сюда", как говорят собаке, и як нему пошла. |
| Yes, the body, the face, with the right name and memory, even the correct remembering of what and whom (except myself: and was that not but further proof?) it had left behind and returned to: but not the ogre; villain true enough, but a mortal fallible one less to invoke fear than pity: but no ogre; mad true enough, but I told myself, why should not madness be its own victim also? or, Why may it be not even madness but solitary despair in titan conflict with the lonely and foredoomed and indomitable iron spirit: but no ogre, because it was dead, vanished, consumed somewhere in flame and sulphur-reek perhaps among the lonely craggy peaks of my childhood's solitary remembering-or forgetting; I was that sun, who believed that he (after that evening in Judith's room) was not oblivious of me but only unconscious and receptive like the swamp-freed pilgrim feeling earth and tasting sun and light again and aware of neither but only of darkness' and morass' lack-who did believe there was that magic in unkin blood which we call by the pallid name of love that would be, might be sun for him (though I the youngest, weakest) where Judith and Clytie both would cast no shadow; yes, I the youngest there yet potently without measured and measurable age since I alone of them could say, |
Да, то же тело, то же лицо, с тем же именем и памятью: он даже правильно запомнил, кого и что (кроме меня; и разве это не было еще одним доказательством?) он покинул и к чему возвратился, но теперь то был уже не людоед -бесспорно, злодей, но смертный, способный ошибаться злодей, внушающий скорее жалость, чем страх, но не людоед; бесспорно, безумец, но я сказала себе: разве безумец не жертва собственного безумия? Быть может, это вовсе не безумие, а отчаяние одиночки, вступившего в титаническую схватку с одиноким, обреченным, неукротимым духом, но уж никак не людоед, ибо он погиб, исчез, быть может, поглощенный парами серы и огнем среди унылых скалистых утесов воспоминаний моего одинокого детства, воспоминаний, а может быть, забвенья; я была тем солнцем, я думала, что он (после того вечера в комнате Джудит) не забыл о моем существовании, а просто сам не отдает себе отчета в своих чувствах, как вырвавшийся из болота путник, который снова почуял под собою землю, увидел свет и солнце, но понял лишь, что больше нет болота и тьмы; я думала, что в чужой, не родственной крови таятся чары, которые мы называем бледным словом "любовь", что она станет, сможет стать ему солнцем (хоть я была моложе и слабее), в лучах которого ни Джудит, ни Клити не смогут отбросить ни малейшей тени; да, я была моложе их всех, но зато мой не исчисляемый временем, не поддающийся измерению возраст придавал мне силы, и потому я, и только я одна, могла сказать ему: |
| 'O furious mad old man, I hold no substance that will fit your dream but I can give you airy space and scope for your delirium." |
"О безумный сумасбродный старик, я сделана не из того, о чем ты грезишь, но я дам тебе воздух и вольный простор для твоих лихорадочных снов". |
| And then one afternoon-oh there was a fate in it: afternoon and afternoon and afternoon: do you see? the death of hope and love, the death of pride and principle, and then the death of everything save the old outraged and aghast unbelieving which has lasted for forty-three years-he returned to the house and called me, shouting from the back gallery until I came down; oh I told you he had not thought of it until that moment, that prolonged moment which contained the distance between the house and wherever it was he had been standing when he thought of it: and this too coincident: it was the very day on which he knew definitely and at last exactly how much of his hundred square miles he would be able to save and keep and call his own on the day when he would have to die, that no matter what happened to him now, he would at least retain the shell of Sutpen's Hundred even though a better name for it would now be Sutpen's One-called, shouted for me until I came down. |
А потом как-то среди дня - да, то была сама судьба: среди дня, среди дня, среди дня -понимаете? - умерли надежда и любовь, умерли гордость и достоинство, умерло все, и осталось только вечное негодование, ужас и недоуменье, которые длятся вот уже сорок три года: он вернулся домой и позвал меня, стоя на заднем крыльце, он громко звал меня, кричал до тех пор, пока я не спустилась вниз; да, да, я вам уже говорила, что он вовсе не думал об этом до той самой минуты, бесконечно долгой минуты, вместившей в себя все расстояние между домом и местом, где он находился, когда это пришло ему в голову; и вот еще одно совпадение - это было в тот самый день, когда он определенно и точно узнал, какую часть своей сотни квадратных миль он сможет спасти, удержать и назвать своею в свой смертный час и что теперь (что бы с ним ни случилось) он по крайней мере сохранит оболочку Сатпеновой Сотни, хотя теперь было бы правильнее называть ее Сатпеновой Единицей; он кричал и звал меня до тех пор, пока я не спустилась вниз. |
| He had not even waited to tether his horse; he stood with the reins over his arm (and no hand on my head now) and spoke the bald outrageous words exactly as if he were consulting with Jones or with some other man about a bitch dog or a cow or mare. |
Он даже не успел привязать лошадей; он стоял, небрежно накинув на руку поводья (на этот раз он не положил руки мне на голову), и говорил со мной такими грубыми бесстыдными словами, точно советовался с Джонсом или с кем-либо еще насчет кобылы, коровы или суки. |
| They will have told you how I came backhome. |
Вам, наверное, уже рассказали, как я вернулась домой. |
| Oh yes, I know: |
Да, да, я знаю: |
'Rosie Coldfield, lose him, weep him; caught a man but couldn't keep him' -Oh yes, I know (and kind too; they would be kind): Rosa Coldfield, warped bitter orphaned country stick called Rosa Coldfield, safely engaged at last and so Off the town, the country; they will have told you: How I went out there to live for the rest of my life, seeing in my nephew's murdering an act of God enabling me ostensibly to obey my dying sister's request that I save at least one of the two children which she had doomed by conceiving them but actually to be in the house when he returned who, being a demon, would therefore be impervious to shot and shell and so would return; I waiting for him because I was young still (who had buried no hopes to bugles, beneath a flag) and ripe for marrying in this time and place where most of the young men were dead and all the living ones either old or already married or tired, too tired for love; he my best, my only chance in this: an environment where at best and even lacking war my chances would have been slender enough since I was not only a Southern gentlewoman but the very modest character of whose background and circumstances must needs be their own affirmation since had I been the daughter of a wealthy planter I could have married almost anyone but being the daughter merely of a small store-keeper I could even afford to accept flowers from almost no one and so would have been doomed to marry at last some casual apprentice-clerk in my father's business-Yes, they will have told you: who was young and had buried hopes only during that night which was four years long when beside a shuttered and unsleeping candle she embalmed the War and its heritage of suffering and injustice and sorrow on the backsides of the pages within an old account book, embalming blotting from the breathable air the poisonous secret effluvium of lusting and hating and killing-they will have told you: daughter of an embusque who had to turn to a demon, a villain: and therefore she had been right in hating her father since if he had not died in that attic she would not have had to go out there to find food and protection and shelter and if she had not had to depend on his food and clothing (even if she did help to grow and weave it) to keep her alive and warm, until simple justice demanded that she make what return for it he might require of her commensurate with honor, she would not have become engaged to him and if she had not become engaged to him she would not have had to lie at night asking herself why and Why and Why as she has done for forty-three years: as if she had been instinctively right even as a child in hating her father and so these forty-three years of impotent and unbearable outrage were the revenge on her of some sophisticated and ironic sterile nature for having hated that which gave her life. -Yes, Rosa Coldfield engaged at last who, lacking the fact that her sister
Читать дальше