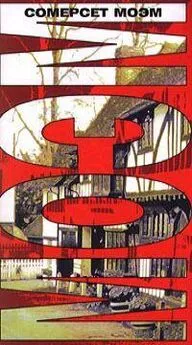В то лето моей бесплодной юности (этого короткого мгновенья, этой короткой, скоротечной, невозвратимой весны женского сердца) мне довелось играть роль не женщины, не девушки, а скорее мужчины, которым мне, наверное, и следовало бы родиться.
But it was no summer of a virgin's itching discontent; no summer's caesarean lack which should have torn me, dead flesh or even embryo, from the living: or else, by friction's ravishing of the male-furrowed meat, also weaponed and panoplied as a man instead of hollow woman.
Я была тогда четырнадцатилетней девочкой, четырнадцатилетней по годам, если можно назвать годами проведенное в нехоженых закоулках время, которое я звала детством, но которое было не жизнью, а скорее отраженьем эмбрионального существования в лишенном света материнском чреве; мне, уже готовому родиться, созревшему, хоть и немного запоздалому плоду, недоставало лишь кесарева сечения, холодных слепых щипцов безжалостного акушера-времени, которые должны были вырвать меня оттуда на свободу - я ожидала не света, а того удела, который зовется победой женщины, но означает лишь терпенье, терпенье, терпенье без смысла, без надежды на награду, - и опять терпенье; я, как подземная слепая рыба, как одинокая искра, о чьем происхожденье эта рыба давно уже забыла; искра, что с вечной и бессонной жаждой жизни трепещет, бьется о стены своего сумрачного, объятого глубоким сном жилища, не ведая иных слов, кроме "то называлось светом", это "запахом", а то "прикосновеньем", а вот то, другое, не передаст потомству ни слова, ни даже звука, чтобы как-нибудь назвать пчелу и птицу, аромат цветка, свет, солнце и любовь, - я даже не росла, не развивалась, не любила света и не была любима им, и, разъедаемая той коварной, зловредной язвой одиночества, что заменяет все чувства лишь одним всепожирающим и безрассудным слухом, я, вместо того чтобы размеренно и постепенно проходить все ступени детства, никем не замеченная, окутанная сырою бархатною тишиной материнского чрева, не вытесняя воздуха, не издавая ни единого предательского звука, кралась от одной запертой и запретной двери к другой и так приобретала познания о свете и пространстве, в котором движутся и дышат люди - точно так же я (этот же ребенок) могла бы получить понятие о солнце, разглядывая его сквозь закопченное стекло, - я была четырнадцатилетней, на четыре года моложе Джудит; я на четыре года опоздала к тому мгновенью, которое уже познала Джудит: оно известно лишь девственницам, это неуловимое мгновенье бесконечной духовной свадьбы двух безымянных, бесполых и нетронутых существ; это не еженощное глумленье неодухотворенной плоти над обездоленною женщиной - награда двадцати-, тридцати- и сорокалетней, а животворное слиянье, единенье в мире света и воздуха, которым она дышит.
| It was the summer after that first Christmas that Henry brought him home, the summer following the two days of that June vacation which he spent at Sutpen's Hundred before he rode on to the River to take the steamboat home, that summer after my aunt left and papa had to go away on business and I was sent out to Ellen (possibly my father chose Ellen as a refuge for me because at that time Thomas Sutpen was also absent) to stay so that she could take care of me, who had been born too late, born into some curious disjoint of my father's life and left on his (now twice) widowed hands, I competent enough to reach a kitchen shelf, count spoons and hem a sheet and measure milk into a churn yet good for nothing else, yet still too valuable to be left alone. |
Однако то лето не было летом девичьих порывов и тревог; щипцы еще не вырвали меня -мертворожденной или даже эмбрионом - из числа живых или, свершив насилие скребка над вспаханной мужчиною же плотью, не превратили меня (сосуд скудельный, женщину) в мужчину. |
| I had never seen him (I never saw him. |
Это было лето после того первого рождества, когда Генри привез его в Сатпенову Сотню, лето после тех двух дней июньских каникул, что он провел там, прежде чем отправиться к Реке, чтоб ехать пароходом домой, лето после того, как убежала тетя, а папа уехал по делам и меня отправили к Эллен (возможно, отец остановил свой выбор на Эллен потому, что в то время Томас Сатпен тоже отсутствовал), чтобы она за мною присмотрела - родившись слишком поздно, когда в жизни моего отца произошел какой-то странный перелом, и, оставшись на руках у этого, теперь уже дважды овдовевшего человека, я к тому времени умела лишь достать что-либо с кухонной полки, сосчитать ложки, подрубить простыню и отмерить молоко в маслобойку и, хотя не годилась больше ни на что, была все же существом столь драгоценным, что меня нельзя было оставлять без присмотра. |
| I never even saw him 'dead. |
Я никогда с ним не встречалась (я вообще ни разу его не видела, я даже не видела его мертвым. |
| I heard a name, I saw a photograph, I helped to make a grave: and that was all) though he had been in my house once, that first New Year's Day when Henry brought him from nephew duty to speak to me on their way back to school and I was not at home. |
Я слышала, я видела фотографию, я помогала рыть могилу - и все), хотя он однажды посетил мой дом - это было в день Нового года, когда Г енри, как почтительный племянник, возвращаясь в университет, заехал вместе с ним ко мне, но меня не оказалось дома. |
| Until then I had not even heard his name, did not know that he existed. |
До этого я даже не слыхала его имени и понятия не имела о его существовании. |
| Yet on the day when I went out there to stay that summer, it was as though that casual pause at my door had left some seed, some minute virulence in this cellar earth of mine quick not for love perhaps (I did not love him; how could I? |
Однако в тот летний день, когда я туда поехала, казалось, будто эта случайная остановка у дверей моего дома оставила в моей подземной норе какой-то легкий след, какое-то крошечное живучее семя, и оно породило, быть может, не любовь (я не любила, как я могла его любить? |
| I had never even heard his voice, had only Ellen's word for it that there was such a person) and quick not for the spying which you will doubtless call it, which during the past six months between that New Year's and that June gave substance to that shadow with a name emerging from Ellen's vain and garrulous folly, that shape without even a face yet because I had not even seen the photograph then, reflected in the secret and bemused gaze of a young girl: because I who had learned nothing of love, not even parents' love-that fond dear constant violation of privacy, that stultification of the burgeoning and incorrigible I which is the need and due of all mammalian meat, became not mistress, not beloved, but more than even love; I became all polymath love's androgynous advocate. ' There must have been some seed he left, to cause a child's vacant fairy-tale to come alive in that garden. |
Я никогда даже не слыхала его голоса и лишь со слов Эллен знала, что на свете есть такой человек) и даже не подсматриванье и подслушиванье, как вы, конечно, это назовете; нет, за следующие шесть месяцев между тем Новым годом и тем июнем оно придало некую материальную основу тени с именем человека, возникшей из глупой хвастливой болтовни Эллен, тени пока еще безликой, потому что тогда я даже еще не видела фотографии, тень, что отразилась в брошенном украдкой мечтательном взгляде юной девушки, и потому я, ничего не зная ни о какой любви, даже о родительской - об этом настойчивом и нежном насилии над личностью, над распускающимся, как цветок, неисправимым Я, что составляет право и награду всех рожденных от женщины, - я стала не любовницей, не возлюбленной, а как бы возвысилась над любовью и превратилась во всеведущего гермафродита, поборника всех разновидностей любви. Наверное, он все же оставил какое-то семя, иначе пустая детская мечта не ожила бы в этом саду. |
| Because I was not spying when I would follow her. |
Ведь я вовсе не шпионила, когда ходила за нею по пятам. |
| I was not spying, though you will say I was And even if it was spying, it was not jealousy, because I did not love him. (How could I have, when I had never seen him?) And even if I did, not as women love, as Judith loved him, or as we thought she did. |
Я не шпионила, хоть вы и скажете, что шпионила. А если я и шпионила, то вовсе не из ревности, потому что я его не любила, (Да и могло ли это быть - ведь я ни разу его не видела.) А если я его и любила, то не так, как любят женщины - не так, как его любила Джудит, во всяком случае не так, как нам казалось, что она его любила. |
| If it was love (and I still say, How could it be?) it was the way that mothers love when, punishing the child she strikes not it but through it strikes the neighbor boy whom it has just whipped or been whipped by; caresses not the rewarded child but rather the nameless man or woman who have the palm-sweated penny. |
Если это и была любовь (а я все еще. спрашиваю: могло ли это быть?), то я любила так, как любит мать, когда, наказывая своего ребенка, шлепает не его, а как бы соседского мальчишку, с которым он только что подрался, или когда, лаская своего ребенка, ласкает не его, а скорее безымянного незнакомца, который в награду сунул ему в ручонку влажное от пота пенни. |
| But not as women love. |
Но не так, как любит женщина. |
| Because I asked nothing of him, you see. |
Видите ли, я ничего у него не просила. |
| And more than that: I gave nothing, which is the sum of loving. |
И более того: я ничего ему не давала, а ведь это и составляет всю суть любви. |
| Why, I didn't even miss him. |
Я даже по нем не скучала. |
| I don't know even now if I was ever aware that I had seen nothing of his face but that photograph, that shadow, that picture in a young girl's bedroom: a picture casual and framed upon a littered dressing table yet bowered and dressed (or so I thought) with all the maiden and invisible lily roses, because even before I saw the photograph I could have recognized, nay, described, the very face. |
Я и теперь не уверена, сознавала ли я когда-нибудь, что ни разу не видела его лица, а видела лишь ту фотографию, ту тень, тот портрет в спальне молодой девушки, обыкновенный портрет в рамке на беспорядочно заставленном туалетном столике, но (как мне казалось) увитый и украшенный всеми белыми розами девичьих грез: ведь, еще ни разу не видев фотографии, я могла бы узнать, и не только узнать, а даже описать его лицо. |
| But I never saw it. |
Но я никогда его не видела. |
| I do not even know of my own knowledge that Ellen ever saw it, that Judith ever loved it, that Henry slew it: so who will dispute me when I say, Why did I not invent, create it? -And I know this: if I were God I would invent out of this seething turmoil we call progress something (a machine perhaps) which would adorn the barren mirror altars of every plain girl who breathes with such as this-which is so little since we want so little-this pictured face. |
У меня нет даже никаких доказательств, что Эллен когда-нибудь его видела, что Джудит его любила, что Генри его застрелил, и потому кто станет со мною спорить, если я скажу: А вдруг я сама его придумала, сочинила? Я знаю лишь одно: на месте господа бога я сотворила бы из этого бурлящего потока, что мы зовем прогрессом, какую-нибудь вещь (например, машину), которая украсила бы все пустые зеркала, эти алтари всех некрасивых девушек, чем-то подобным этому портрету; это очень мало, но ведь нам и нужно очень мало. |
| It would not even need a skull behind it; almost anonymous, it would only need vague inference of some walking flesh and blood desired by someone else even if only in some shadow-realm of make-believe. -A picture seen by stealth, by creeping (my childhood taught me that instead of love and it stood me in good stead; in fact, if it had taught me love, love could not have stood me so) into the deserted midday room to look at it. |
И совсем не обязательно, чтобы, за ним скрывался череп; пусть это будет любое безымянное лицо, смутный намек на какое-то живое существо, предмет желаний другого существа, хотя бы даже только в призрачном мире сказки. Портрет, подсмотренный украдкой (мое детство научило меня не любви, а скрытности, и она сослужила мне добрую службу; любовь едва ли была бы мне такой надежною опорой), когда я во время обеда тайком пробралась в опустевшую комнату. |
| Not to dream, since I dwelt in the dream, but to renew, rehearse, the part as the faulty though eager amateur might steal wingward in some interim of the visible scene to hear the prompter's momentary voice. |
Не для того, чтоб грезить: ведь я и без того жила во сне, а чтобы еще раз повторить уже затверженную роль - так неуверенный, но рьяный дилетант прокрадывается в укромный уголок за кулисами, откуда лучше слышен голос суфлера. |
| And if jealousy, not man's jealousy, the jealousy of the lover, not even the lover's self who spies from love, who spies to watch, taste, touch that maiden revery of solitude which is the first thinning of that veil we call virginity; not to spring out, force that shame which is such a part of love's declaring, but to gloat upon the rich instantaneous bosom already rosy with the flushy sleep though shame itself does not yet need to wake. |
А если это была ревность, то не ревность мужчины, не ревность влюбленного и даже не ревнивый взор влюбленного, который шпионит из любви, в надежде прикоснуться к одинокой девичьей грезе: ведь при этом впервые начинает раскрываться та завеса, которую мы называем девственностью, но не затем, чтоб вызвать краску стыдливости, непременный спутник любовных излияний, а лишь чтоб насладиться видом нежной девичьей груди, уже порозовевшей в благодатной легкой дреме, когда стыдливости еще не время просыпаться. |
| No, it was not that; I was not spying, who would walk those raked and sanded garden paths and think ' This print was his save for this obliterating rake, that even despite the rake it is still there and hers beside it in that slow and mutual rhythm wherein the heart, the mind, does not need to watch the docile (ay, the willing) feet'; would think 'What suspiration of the twinning souls have the murmurous myriad ears of this secluded vine or shrub listened to? what vow, what promise, what rapt biding fire has the lilac rain of this wistaria, this heavy rose's dissolution, crowned?" |
Нет, дело ведь совсем не в том; я не шпионила, я бродила по саду, по разровненным граблями, посыпанным песком дорожкам, и думала: "Здесь был его след, и хотя его стерли эти грабли, он все равно еще остался здесь, а рядом ее след; они здесь проходили в том медленном согласном ритме, когда ни сердцу, ни сознанью нет нужды следить за послушными (да, и покорными) ногами"; я размышляла: |
| But best of all, better far than this, the actual living and the dreamy flesh itself. |
"Каким вздохам двух слитых воедино душ внимали сии уединенные кустарники и лозы? Какие клятвы, обещанья, какие жаркие и пламенные страсти увенчал сиреневый ливень этой глицинии, мириады опавших лепестков этой розы?" |
| Oh no, I was not spying while I dreamed in the lurking harborage of my own shrub or vine as I believed she dreamed upon the nooky seat which held invisible imprint of his absent thighs just as the obliterating sand, the million finger-nerves of frond and leaf, the very sun and moony constellations which had looked down at him, the circumambient air, held somewhere yet his foot, his passing shape, his face, his speaking voice, his name: Charles Bon, Charles Good, Charles Husband-soon-to-be. |
Но лучше, много лучше этого всего настоящая жизнь и дремотная нега самой плоти. |
| No, not spying, not even hiding, who was child enough not to need to hide, whose presence would have been no violation even though he sat with her, yet woman enough to have gone to her entitled to be received (perhaps with pleasure, gratitude) into that maiden shameless confidence where young girls talk of love. |
О нет, я не шпионила, когда, притаившись в своем убежище под лозой или кустом, грезила, как, наверно, грезила она на уединенной скамейке, что еще хранила невидимый отпечаток его тела; подобно этому сыпучий песок, миллионы нежных листьев и ростков, солнце, мириады задумчивых созвездий, которые взирали на него с небес, всепроникающий воздух - все они хранили следы его ног, его промелькнувшую тень, его лицо, его голос, его имя: Чарльз Бон, Чарльз Добрый, Чарльз Будущий Супруг. |
| Yes, child enough to go to her and say |
Нет, я не шпионила, я даже не пряталась, я все еще была ребенком, и потому мне незачем было прятаться; я бы даже ничуть не помешала, если бы они сидели вместе; однако я была настолько взрослой, чтобы пойти к ней, надеясь, что она (быть может, даже радостно и благодарно) посвятит меня в свои тайны, без всякого стыда, как девушки говорят о любви да, еще настолько ребенком, чтобы пойти к ней и сказать: |
| 'Let me sleep with you'; woman enough to say' Let us lie in bed together while you tell me what love is,' yet who did not do it because I should have had to say ' Dont talk to me of love but let me tell you, who know already more of love than you will ever know or need." |
"Позволь мне спать с тобой"; но уже настолько взрослой, чтобы сказать: "Давай ляжем вместе в постель, и ты расскажешь мне, что такое любовь"; но я этого не сделала, ведь тогда мне пришлось бы сказать: "Не говори мне о любви, я сама расскажу тебе о ней - ведь мне уже известно о любви больше, чем ты когда-либо узнаешь и чем тебе потребуется знать". |
| Then my father returned and came for me and took me home and I became again that nondescript too long a child yet too short a woman, in the fitless garments which my aunt had left behind, keeping a fitless house, who was not spying, hiding, but waiting, watching, for no reward, no thanks, who did not love him in the sense we mean it because there is no love of that sort without hope; who (if it were love) loved with that sort beyond the compass of glib books: that love which gives up what it never had that penny's modicum which is the donor's all yet whose infinitesimal weight adds nothing to the substance of the loved-and yet I gave it. |
Потом отец вернулся; он приехал и забрал меня домой, и я опять превратилась в нескладного переростка, уже не девочку, но еще не женщину; одетая в несуразные платья, оставленные теткой, я вела хозяйство в несуразном доме; я не шпионила, не пряталась, я наблюдала и ждала - не благодарности и не награды: ведь я не любила его в обычном смысле слова, потому что такая любовь не может существовать без надежды; я любила его (если то была любовь) такой любовью, о какой не пишут, в пошлых романах, такой любовью, что отдает все, чем никогда не обладала, - тот жалкий грош, что составляет все достояние дающего, но ничего не добавляет предмету его любви - и тем не менее я это отдала. |
| And not to him, to her; it was as though I saidto her, |
Но отдала я это не ему, не ей; казалось, я ей говорила: |
| 'Here, take this too. |
"Возьми себе и это. |
| You cannot love him as he should be loved, and though he will no more feel this giving's weight than he would ever know its lack, yet there may come some moment in your married lives when he will find this atom's particle as you might find a cramped small pallid hidden shoot in a familiar flower bed and pause and say, "where did this come from?"; you need only answer, |
Ты не можешь любить его так, как следует его любить; и хотя он не ощутит всей тяжести этого дара, как не заметит и его отсутствия, однако в вашей совместной жизни, может быть, наступит такая минута, когда он найдет эту крохотную частичку, этот атом так на знакомой клумбе ты вдруг находишь какой-то жалкий, бледный, сморщенный росток и спрашиваешь: "А это как сюда попало?" - и отвечаешь самой себе: |
| "I don't know." ' 4nd then I went back home and stayed five years, heard an echoed shot, ran up a nightmare flight of stairs, and found why, a woman standing calmly in a gingham dress before a closed door which she would not allow me to enter-a woman more strange to me than to any grief for being so less its partner-a woman saying ' Yes, Rosa?" calmly into the midstride of my running which (I know it now) had begun five years ago, since he had been in my house too, and had left no more trace than he had left in Ellen's, where he had been but a shape, a shadow: not of a man, a being, but of some esoteric piece of furniture-vase or chair or desk-which Ellen wanted, as though his very impression (or lack of it) on Coldfield or Sutpen walls held portentous prophecy of what was to be Yes, running out of that first year (that year before the war) during which Ellen talked to me of trousseau (and it my trousseau), of all the dreamy panoply of surrender which was my surrender, who had so little to surrender that it was all I had because there is that might-have-been which is the single rock we cling to above the maelstrom of unbearable reality-The four years while I believed she waited as I waited, while the stable world we had been taught to know dissolved in fire and smoke until peace and security were gone, and pride and hope, and there was left only maimed honor's veterans, and love. |
"Не знаю". А потом я возвратилась домой, прожила там пять лет, услышала эхо далекого выстрела, как в кошмаре взбежала по лестнице и увидела... Всего лишь женщину в бумажном платье - она стояла перед закрытой дверью в комнату и не пускала меня туда, - женщину чуждую мне даже больше, чем любому горю, потому что она его не испытывала, женщину, которая спокойными словами: "Что, Роза?" -остановила меня на бегу; этот бег (как я теперь знаю) начался пятью годами раньше, с тех пор, как он побывал и в моем доме, оставив там, впрочем, не больше следов, чем в доме Эллен, где он прошел как оболочка, тень чего-то - не человека, не живого существа, а лишь какого-то диковинного предмета - вазы, шифоньера или кресла, который Эллен хотела бы приобрести; словно отпечаток, оставленный (или не оставленный) им на Колдфилдовых и Сатпеновых стенах, таил в себе какое-то зловещее предвестье грядущего... Да, я выбежала из того первого года (года перед началом Войны), когда Эллен беспрерывно толковала мне о приданом (а ведь это было мое приданое), о сказочном убранстве, необходимом, чтоб отдаться, а отдаться предстояло мне, хоть я и могла отдать всего лишь малость - все свое достояние, ибо существует нечто, что могло бы быть, единственный утес, за который мы цепляемся, чтоб уцелеть в водовороте жестокой действительности... И прошло еще четыре года, - все это время она, подобно мне, ждала, когда все устои, в незыблемость которых нас приучили верить, рушились в огне и дыме и наконец погибло все - мир, безопасность, гордость и надежда; остались только изувеченные ветераны чести и любви. |
| Yes, there should, there must, be love and faith: these left with us by fathers, husbands, sweethearts, brothers, who carried the pride and the hope of peace in honor's vanguard as they did the flags; there must be these, else what do men fight for? what else worth dying for? |
Да, на свете должны, непременно должны быть и любовь и верность - ведь их оставили нам отцы, мужья, возлюбленные и братья, которые высоко несли знамя гордости и надежды на мир - они должны быть, а иначе за что воюют мужчины? и за что еще стоит умирать? |
| Yes, dying not for honor's empty sake, nor pride nor even peace, but for that love and faith they left behind. |
Да, умирать не ради суетной чести, не ради гордости и даже не ради мира, а ради той любви и верности, которые они оставили нам, уходя. |
| Because he was to die; I know that, knew that, as both pride and peace were: else how to prove love's immortality? |
Ибо ему суждено было умереть - я это знаю и знала тогда, - суждено, как гордости и миру, а иначе чем доказать бессмертие любви? |
| But not love, not faith itself, themselves. Love without hope perhaps, faith with little to be proud with: but love and faith at least above the murdering and the folly, to salvage at least from the humbled indicted dust something anyway of the old lost enchantment of the heart. -Yes, found her standing before that closed door which I was not to enter (and which she herself did not enter again to my knowledge until Jones and the other 'man carried the coffin up the stairs) with the photograph hanging at her side and her face absolutely calm, looking at me for a moment and just raising her voice enough to be heard in the hall below: |
Но любовь и верность умереть не могли. |
| ' Clytie. |
Разве только любовь без надежды и верность, которой нечем гордиться; но все равно любовь и верность должны были остаться превыше убийства и безумия, чтобы из жалкого, отягощенного виною праха спасти хотя бы что-то от прежнего очарования души... Да, она стояла перед закрытой дверью в комнату, куда мне не позволили войти (и, насколько мне известно, куда она сама тоже больше не входила, пока Джонс и его помощник не внесли наверх гроб), стояла с фотографией в опущенной руке, лицо ее было совершенно спокойно, она окинула меня быстрым взглядом и, слегка повысив голос - ровно настолько, чтобы его можно было расслышать внизу в прихожей, - сказала: |
| Miss Rosa will be here for dinner; you had better get out some more meal': then |
"Клити. |
| 'Shall we go down stairs? |
Мисс Роза останется обедать; раздобудь еще какой-нибудь еды", - и потом: |
| I will have to speak to Mr Jones about some planks and nails." |
"Может быть". |
| That was all. Or rather, not all, since there is no all, no finish; it's not the blow we suffer from but the tedious repercussive anticlimax of it, the rubbishy aftermath to clear away from off the very threshold of despair. |
И это было все. |
| You see, I never saw him. |
Или, вернее, не все, потому что не существует такого понятия, как все, конец; нам причиняет боль не сам удар, а его отражение, томительное последствие, жалкий мусор, который нужно смести с порога отчаяния. |
| I never even saw him dead. |
Понимаете, ведь я его ни разу не видела. |
| I heard an echo, but not the shot; I saw a closed door but did not enter it." |
Я даже не видела его мертвым. |
| I remember how that afternoon when we carried the coffin from the house (Jones and another white man which he produced, exhumed, from somewhere made it of boards torn from the carriage house; I remember how while we ate the food which Judith yes, Judith, the same face calm, cold and tranquil above the stove had cooked, ate it in the very room which he lay over, we could hear them hammering and sawing in the backyard, and how I saw Judith once, in a faded gingham sunbonnet to match the dress, giving them directions about making it; I remember how during all that slow and sunny afternoon they hammered and sawed right under the back parlor window-the slow, maddening rasp, rasp, rasp, of the saw, the flat deliberate hammer blows that seemed as though each would be the last but was not, repeated and resumed just when the dulled attenuation of the wearied nerves, stretched beyond all resiliency, relaxed to silence and then had to scream again: until at last I went out there (and saw Judith in the barnlot in a cloud of chickens, her apron cradled about the gathered eggs) and asked them why? why there? why must it be just there? and they both stopped long and more than long enough for Jones to turn and spit again and say, ' Because hit wouldn't be so fur to tote the box': and how before my very back was turned he-one of them-added further, out of some amazed and fumbling ratiocination of inertia, how |
Я слышала не выстрел, а только эхо; я видела закрытую дверь комнаты, но внутрь не входила; я помню, как в тот вечер, когда мы вынесли гроб из дома (Джонс и второй белый, которого он раздобыл, извлек невесть откуда, сколотили этот гроб из досок, сорванных с каретника; помню, что, пока мы ели обед, приготовленный Джудит -да, Джудит с тем же спокойным, холодным, невозмутимым лицом варила его на плите, - ели его в той комнате, над которой он лежал, было слышно, как они стучат молотками и пилят на заднем дворе; помню, как Джудит в выцветшей бумажной шляпе под стать платью дает им указания; помню, как весь этот бесконечный солнечный день они стучали и пилили прямо под окнами выходящей во двор гостиной; помню монотонный, доводящий до безумия визг пилы -ежик, ежик, ежик; глухие, ровные удары молотка -кажется, вот это уж последний, но нет, он вовсе не последний, он повторяется снова и как раз в ту секунду, когда наступает тишина, с новой силой бьет по едва успевшим расслабиться, усталым, отупевшим, до предела натянутым нервам; и наконец, я выхожу во двор (по дороге возле сарая мне встретилась окруженная стаей кур Джудит с полным передником только что собранных яиц) и спрашиваю их: "почему? почему здесь? почему надо делать это именно здесь?", и тут они оба останавливаются и перестают стучать; это длится довольно долго, достаточно долго, чтобы Джонс мог обернуться, дважды сплюнуть и ответить: "Потому что отсюда ближе тащить ящик", и не успела я еще отойти, как он, один из них, добавил, очевидно по какой-то тупой инерции неожиданно для самого себя отыскав логическое объяснение происходящему. |
| 'Hit would be simpler yit to fetch him down and nail the planks around him, only maybe Missus Judy wouldn't like hit.")-I remember how as we carried him down the stairs and out to the waiting wagon I tried to take the full weight of the coffin to prove to myself that he was really in it. |
"Уж чего бы проще оттащить его вниз да и обколотить вокруг досками. Вот только мисс Джуди, наверно, не понравится")... Помню, когда мы несли его вниз по лестнице к стоявшему в ожидании фургону, я старалась взять на себя всю тяжесть гроба, желая убедиться, что он и в самом деле там лежит. |
| And I could not tell. |
И все равно уверенности у меня не было. |
| I was one of his pallbearers, yet I could not, would not believe something which I knew could not but be so. |
Я несла вместе с остальными его гроб, но все же не могла и не хотела верить в то, чего, как я знала, не могло не быть. |
| Because I never saw him. |
Ведь я его никогда не видела. |
| You see? |
Понимаете? |
| There are some things which happen to us which the intelligence and the senses refuse just as the stomach sometimes refuses what the palate has accepted but which digestion cannot compass-occurrences which stop us dead as though by some impalpable intervention, like a sheet of glass through which we watch all subsequent events transpire as though in a soundless vacuum, and fade, vanish; are gone, leaving us immobile, impotent, helpless; fixed, until we can die. |
С нами порой случается нечто такое, чего наши чувства и разум не в состоянии принять - так желудок иногда не принимает пищи, что показалась нам съедобной, но наш организм не в состоянии ее переварить происшествия, которые внезапно воздвигают перед нами какую-то неосязаемую преграду вроде стеклянной стены; мы останавливаемся как вкопанные и смотрим сквозь нее на все последующие события - едва успев возникнуть, они уходят, исчезают, словно растворившись в беззвучной пустоте, а мы, не в силах двинуться с места, беспомощно стоим и остаемся так стоять до самой смерти. |
| That was I. |
Так было и со мной. |
| I was there; something of me walked in measured cadence with the measured tread of Jones and his companion, and Theophilus McCaslin who had heard the news somehow back in town, and Clytie as we bore the awkward and unmanageable box past the stair's close turning while Judith, following, steadied it from behind, and so down and out to the wagon; something of me helped to raise that which it could not have raised alone yet which it still could not believe, into the waiting wagon; something of me stood beside the gashy earth in the cedars' somber gloom and heard the clumsy knell of clods upon the wood and answered No when Judith at the grave's wounded end said, ' He was a Catholic. |
Я была там; какая-то часть моего существа двигалась размеренным шагом в ногу с Джонсом и его помощником, с Теофилусом Маккаслином, который, каким-то образом узнав о происшедшем, приехал из города, и с Клити; мы несли громоздкий, неуклюжий ящик по узкой тесной лестнице, а Джудит поддерживала его сзади, и так дотащили до фургона; какая-то часть моего существа помогла поднять и взвалить на стоявший внизу фургон нечто, чего я не смогла бы поднять одна, но во что все еще отказывалась верить; какая-то часть моего существа стояла в сумеречной тени виргинских можжевельников возле зияющей щели в земле, слушала, как комья с глухим стуком ударяются о доски, и вместе со всеми ответила нет, когда Джудит,, стоя в головах могильного холмика, спросила: |
| Do any of you all know how Catholics-' and Theophilus McCaslin said, |
"Он был католиком. Знает, ли кто-нибудь из вас, как католики...", ко. что Теофилус Маккаслин сказал: |
| ' Catholic be damned,' he was a soldier. |
"К черту католиков, он был солдат. |
| And I can pray for any Confedrit soldier' and then cried in his old man's shrill harsh loud cacophonous voice: |
А уж я как-нибудь сумею прочесть молитву за конфедерата", а затем хриплым старческим голосом прокричал: |
| ' Yaaaay, Forrest! |
"Эге-гей, Форреста! |
| Yaaaay, John Sartoris! |
Эге-гей, Джон Сарторис! |
| Yaaaaaay!" |
Эге-гей!" |
| And something walked with Judith and Clytie back across that sunset field and answered in some curious serene suspension to the serene quiet voice which talked of plowing corn and cutting winter wood, and in the lamplit kitchen helped this time to cook the meal and helped to eat it too within the room beyond whose ceiling he no longer lay, and went to bed (yes, took a candle from that firm untrembling hand and thought |
И какая-то часть моего существа вместе с Джудит и Клити пошла обратно по освещенному закатным солнцем полю и в каком-то странном невозмутимом оцепененье отзывалась на невозмутимо спокойный голос, толковавший о вспашке земли под кукурузу и о заготовке дров на зиму, а потом на кухне при свете лампы помогала стряпать ужин и даже вместе со всеми ела его в той самой комнате, над потолком которой он уже больше не лежал, после чего пошла спать (да, взяла свечу из этой твердой недрогнувшей руки и подумала: |
| 'She did not even weep' and then in a lamp-gloomed mirror saw my own face and thought |
"Она даже не плакала", а увидев в тускло освещенном лампой зеркале свое лицо, подумала: |
| 'Nor did you either') within that house where he had sojourned for another brief (and this time final) space and left no trace of him, not even tears. |
"Но ведь и ты тоже") в том самом доме, где он провел еще одно короткое (на этот раз последнее) мгновенье и не оставил по себе ни следа, ни даже слез. |
| Yes. |
Да. |
| One day he was not. |
Однажды его не было. |
| Then he was. |
Потом он был. |
| Then he was not. |
Потом его не стало. |
| It was too short, too fast, too quick; six hours of a summer afternoon saw it all-a space too short to leave even the imprint of a body on a mattress, and blood can come from anywhere-if there was blood, since I never saw him. |
Все было слишком коротко, стремительно, поспешно - все длилось только шесть часов, один короткий летний день: мгновенье было слишком мимолетным, чтобы оставить хотя бы отпечаток тела на матрасе, а мало ли откуда может взяться кровь, если она вообще была - не знаю, я ведь его ни разу не видела. |
| For all I was allowed to know, we had no corpse; we even had no murderer (we did not even speak of Henry that day, not one of us; I did not say-the aunt, the spinster-' Did he look well or ill?" |
Судя по тому, что мне позволили узнать, не было ни трупа, ни даже и убийцы (в тот день не было даже и речи о Генри; никто из нас о нем не заикнулся; я, тетка, старая дева, даже не спросила, как он выглядел - хорошо или плохо? |
| I did not say one of the thousand trivial things with which the indomitable woman-blood ignores the man's world in which the blood kinsman shows the courage or cowardice, the folly or lust or fear, for which his fellows praise or crucify him) who came and crashed a door and cried his crime and vanished, who for the fact that he was still alive was just that much more shadowy than the abstraction which we had nailed into a box-a shot heard only by its echo, a strange gaunt half-wild horse, bridled and with empty saddle, the saddle bags containing a pistol, a worn clean shirt, a lump of iron-like bread, captured by a man four miles away and two days later while trying to force the crib door in his stable. |
Я не произнесла ни одного из той тысячи банальных слов, при помощи которых неукротимый женский инстинкт отгораживается от мира мужчин, где родственник может выказать смелость или трусость, безрассудство, вожделенье или страх, за что другие мужчины его наградят или казнят); не было убийцы, который явился, с шумом распахнул дверь, возвестил о своем преступлении и исчез, убийцы, который, хоть он и остался жив, казался еще более призрачным, чем бестелесное ничто, которое мы заколотили в деревянный ящик; был только выстрел, да и то не самый выстрел, а лишь эхо, была тощая одичавшая кляча с уздечкой, но с пустым седлом; в седельной сумке был пистолет, поношенная чистая рубашка и твердый, как камень, кусок хлеба - эту клячу два дня спустя в четырех милях от Сатпеновой Сотни поймал какой-то фермер, когда она пыталась забраться в его конюшню. |
| Yes, more than that: he was absent, and he was; he returned, and he was not; three women put something into the earth and covered it, and he had never been. |
И более того: он отсутствовал, и он был, он возвратился, и его больше не было; три женщины зарыли что-то в землю, и его вообще как не бывало. |
| Now you will ask me why I stayed there. |
Теперь вы спросите, зачем я там осталась. |
| I could say, I do not know, could give ten thousand paltry reasons, all untrue, and be believed-that I stayed for food, who could have combed ditchbanks and weed-beds, made and worked a garden as well at my own home in town as here, not to speak of neighbors, friends whose alms I might have accepted, since necessity has a way of obliterating from our conduct various delicate scruples regarding honor and pride; that I stayed for shelter, who had a roof of my own in fee simple now indeed; or that I stayed for company, who at home could have had the company of neighbors who were at least of my own kind, who had known me all my life and even longer in the sense that they thought not only as I thought but as my forbears thought, while here I had for company one woman whom, for all she was blood kin to me, I did not understand and, if what my observation warranted me to believe was true, I did not wish to understand, and another who was so foreign to me and to all that I was that we might have been not only of different races (which we were), not only of different sexes (which we were not), but of different species, speaking no language which the other understood, the very simple words with which we were forced to adjust our days to one another being even less inferential of thought or intention than the sounds which a beast and a bird might make to each other. |
Я могла бы сказать: не знаю, могла бы привести десять тысяч пустячных причин, все до единой ложные, и вы бы мне поверили - сказать, что осталась ради хлеба насущного, хотя могла бы точно так же, как и здесь, выполоть на клумбах сорняки и развести огород у себя в саду, не говоря о соседях, друзьях, чьи приношения могла бы принимать, ибо нужда умеет пренебречь чрезмерной щепетильностью в вопросах гордости и чести; сказать, что осталась ради крова, хотя теперь-то у меня была крыша над головой в собственном родовом поместье; или сказать, что я осталась ради общества, хотя дома могла общаться с соседями, которые по крайней мере принадлежали к моему кругу, знали меня со дня рождения и даже дольше, в том смысле, что разделяли все мнения и мысли - не только мои, но и моих предков; тогда как здесь я находилась в обществе одной женщины, которую, несмотря на наше кровное родство, я совсем не понимала и, если выводы, вытекавшие из моих наблюдений, были верны, даже и не хотела понимать, и другой женщины, которая была настолько чуждой мне и всему тому, что составляло мое существо, словно мы, принадлежали не только к разным расам (так оно и было), не только к разным полам (а уж чего не было, того не было), но даже к разным биологическим видам; мы говорили как бы на совершенно разных языках, и даже самые простые слова, которыми нам приходилось каждый день обмениваться, выражали мысли и намерения, имевшие даже меньше общего, чем звуки, какие издают звери и птицы. |
| But I don't say any of these. |
Но я вам ничего такого не скажу. |
| I stayed there and waited for Thomas Sutpen to come home. |
Я осталась ждать возвращения Томаса Сатпена. |
| Yes. |
Да. |
| You will say (or believe) that I waited even then to become engaged to him; if I said I did not, you would believe I lied. |
Вы скажете (или подумаете), что я уже тогда надеялась выйти за него замуж, и если бы я стала это отрицать, вы сочли бы, что я говорю неправду. |
| But I do say I did not. |
И тем не менее я это отрицаю. |
| I waited for him exactly as Judith and Clytie waited for him: because now he was all we had, all that gave us any reason for continuing to exist, to eat food and sleep and wake and rise again: knowing that he would need us, knowing as we did (who knew him) that he would begin at once to salvage what was left of Sutpen's Hundred and restore it. |
Я ждала его так же, как Джудит и Клити, - теперь он был всем, что у нас еще осталось, единственным, что придавало смысл нашему дальнейшему существованию, что заставляло нас есть, спать, снова просыпаться и вставать; мы знали, что мы ему понадобимся; мы (зная его) знали, что он тотчас же примется спасать и заново строить то, что еще осталось от Сатпеновой Сотни. |
| Not that we would or did need him. (I had never for one instant thought of marriage, never for one instant imagined that he would look at me, see me, since he never had. |
Не то чтобы мы сами в нем нуждались. Я никогда ни на секунду не думала о замужестве, никогда ни на секунду не воображала, что он на меня взглянет и меня увидит - ведь он никогда на меня не смотрел. |
| You may believe me, because I shall make no bones to say so when the moment comes to tell you when I did think of it.) No. |
Вы вполне можете мне поверить, потому что в свое время я не постесняюсь рассказать вам, когда именно я об этом подумала. Нет. |
| It did not even require the first day of the life we were to lead together to show us that we did not need him had not the need for any man so long as Wash Jones lived or stayed there-I who had kept my father's house and he alive for almost four years, Judith who had done the same out here, and Clytie who could cut a cord of wood or run a furrow better (or at least quicker) than Jones himself. -And this the sad fact, one of the saddest: that weary tedium which the heart and spirit feel when they no longer need that to whose need they (the spirit and the heart) are necessary. |
Нам не потребовалось и дня совместной жизни, чтобы понять: он нам не нужен, нам вообще не нужен ни один мужчина, пока Уош Джонс жив и остается здесь - ведь я при жизни отца почти четыре года вела его хозяйство, Джудит занималась тем же делом здесь, а Клити могла нарубить дров и вспахать борозду не хуже (и, во всяком случае, быстрее) самого Уоша Джонса... И вот что печально, печальнее всего: безотрадное уныние, которое охватывает душу и сердце, когда им больше не нужно то, что нуждается в них самих. |
| No. |
Нет. |
| We did not need him, not even vicariously, who could not even join him in his furious (that almost mad intention which he brought home with him, seemed to project, radiate ahead of him before he even dismounted) desire to restore the place to what it had been that he had sacrificed pity and gentleness and love and all the soft Virtues for-if he had ever had them to sacrifice, felt their lack, desired them of others. |
Нам не был нужен ни он, ни даже кто-то, кто мог бы его заменить; ведь мы даже не разделяли его неукротимого желания (почти безумного намерения, с которым он вернулся домой и которое, казалось, начал распространять, излучать, еще не успев спешиться), желания восстановить свою плантацию, вновь сделать ее тем, ради чего он принес в жертву сострадание, нежность, любовь и все человеческие чувства -если считать, что он ими когда-либо обладал, ведь иначе он не мог ни жертвовать ими, ни ощущать в них недостаток, ни желать возбудить их в других. |
| Not even that. |
Нет, дело даже и не в этом. |
| Neither Judith nor I wanted that. |
Ни я, ни Джудит этого не хотели. |
| Perhaps it was because we did not believe it could be done, but I think it was more than that: that we now existed in an apathy which was almost peace, like that of the blind unsentient earth itself which dreams after no flower's stalk nor bud, envies not the airy musical solitude of the springing leaves it nourishes. |
Вероятно, мы просто считали это невозможным, но, что гораздо важнее, мы обрели покой, нас охватило безразличие, напоминавшее слепую бесчувственность самой земли, что даже и не грезит о распускающихся листьях и цветах, не внемлет божественному шелесту молодых побегов, которые она сама питает. |
| So we waited for him. |
Итак, мы ждали его возвращения. |
| We led the busy eventless lives of three nuns in a barren and poverty-stricken convent: the walls we had were safe, impervious enough, even if it did not matter to the walls whether we ate or not. |
Мы вели хлопотливую, однообразную жизнь трех монахинь в опустелом нищем монастыре; окружавшие нас стены были достаточно надежны и неприступны, хотя они равнодушно взирали на то, есть у нас пища или нет. |
| And amicably, not as two white women and a Negress, not as three Negroes or three white, not even as three women, but merely as three creatures who still possessed the need to eat but took no pleasure in it, the need to sleep but from no joy in weariness or regeneration, and in whom sex was some forgotten atrophy like the rudimentary gills we call the tonsils or the still opposable thumbs for old climbing. |
Мы жили дружно - не как две белые женщины и одна негритянка, не как три негритянки или три белые и даже не как три женщины, а просто как три живые существа, которые все еще испытывают потребность в пище, хоть и не получают от нее никакого удовольствия, испытывают потребность во сне, хоть и не ощущают радости от возможности отдохнуть и вновь набраться сил, и у которых все признаки пола атрофировались, подобно рудиментарным жабрам, известным под названием миндалин, либо большому пальцу ноги, все еще отделенному от остальных, как у наших предков, которые лазали по деревьям. |
| We kept the house, what part of it we lived in, used; we kept the room which Thomas Sutpen would return to-not that one which he left, a husband, but the one to which he should return a sonless widower, barren of that posterity which he doubtless must have wanted who had gone to the trouble and expense of getting children and housing them among imported furniture beneath crystal chandeliers, just as we kept Henry's room, as Judith and Clytie kept it that is, as if he had not run up the stairs that summer afternoon and then ran down again; we grew and tended and harvested with our own hands the food we ate, made and worked that garden just as we cooked and ate the food which came out of it: with no distinction among the three of us of age or color but just as to who could build this fire or stir this pot or weed this bed or carry this apron full of corn to the mill for meal with least cost to the general good in time or expense of other duties. |
Мы поддерживали порядок в той части дома, где мы жили; мы убирали комнату, куда должен был водвориться Сатпен - не ту, которую он покинул супругом, а ту, куда он должен был вернуться вдовцом, потерявшим сына, лишенным потомства, которого он, без сомнения, желал, коль скоро всеми силами и средствами старался произвести на свет детей и поместить их среди привезенной издалека мебели под хрустальными люстрами - точно так оке, как мы, то есть Джудит, и Клити, убирали комнату Генри, словно в тот летний день он не промчался сначала вверх, а потом вниз по лестнице; мы своими руками сажали, выращивали и собирали продукты, которыми питались; мы обрабатывали огород, варили и ели овощи, которые на нем росли; разница в возрасте и цвете кожи тут роли не играла, важно было лишь, кто, сберегая время и силы, нужные для других дел, сумеет быстрее разжечь огонь в очаге, помешать варево в горшке, выполоть грядку или отнести на мельницу полный фартук кукурузы, чтоб намолоть муки. |
It was as though we were one being, interchangeable and indiscriminate, which kept that garden growing, spun thread and wove the cloth we wore, hunted and found and rendered the meager ditch-side herbs to protect and guarantee what spartan compromise we dared or had the time to make with illness, harried and nagged that Jones into working the corn and cutting the wood which was to be our winter's warmth and sustenance the three of us, three women." I drafted by circumstance at too soon an age into a pinchpenny housewifery which might have existed just as well upon a lighthouse rock, which had not even taught me how to cultivate a bed of flowers, let alone a kitchen garden, which had taught me to look upon fuel and meat as something appearing by its own volition in a woodbox or on a pantry shelf; Judith created by circumstance (circumstance? a hundred years of careful nurturing, perhaps not by blood, not even Coldfield blood, but certainly by the tradition in which Thomas Sutpen' s ruthless will had carved a niche) to pass through the soft insulated and unscathed cocoon stages: bud, served prolific queen, then potent and soft-handed matriarch of old age's serene and welllived content-Judith handicapped by what in me was a few years' ignorance but which in her was ten generations of iron prohibition, who had not learned that first principle of penury which is to scrimp and save for the sake of scrimping and saving, who (and abetted by Clytie) would cook twice what we could eat and three times what we could afford and give it to anyone, any stranger in a land already beginning to fill with straggling soldiers who stopped and asked for it; and (but not least) Clytie.
Читать дальше